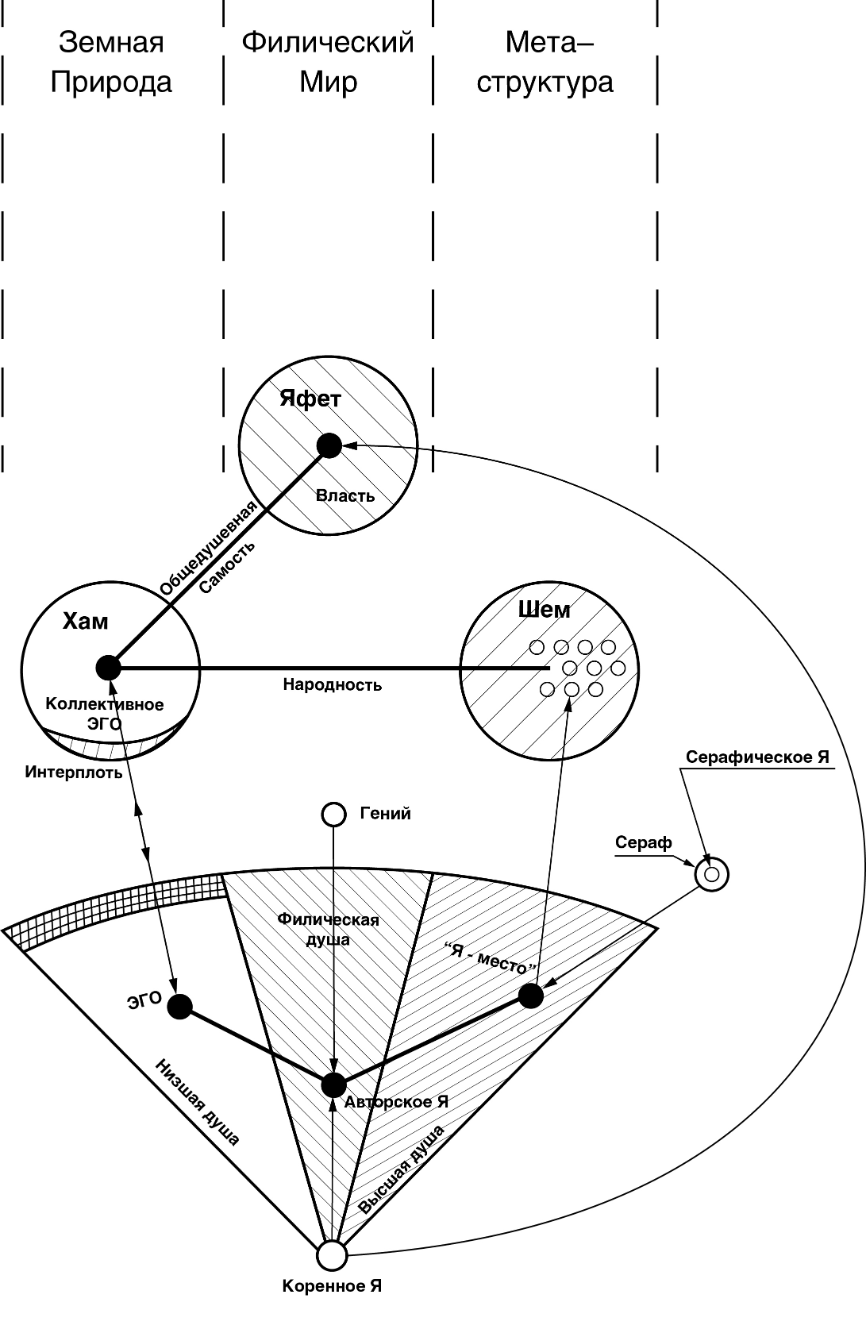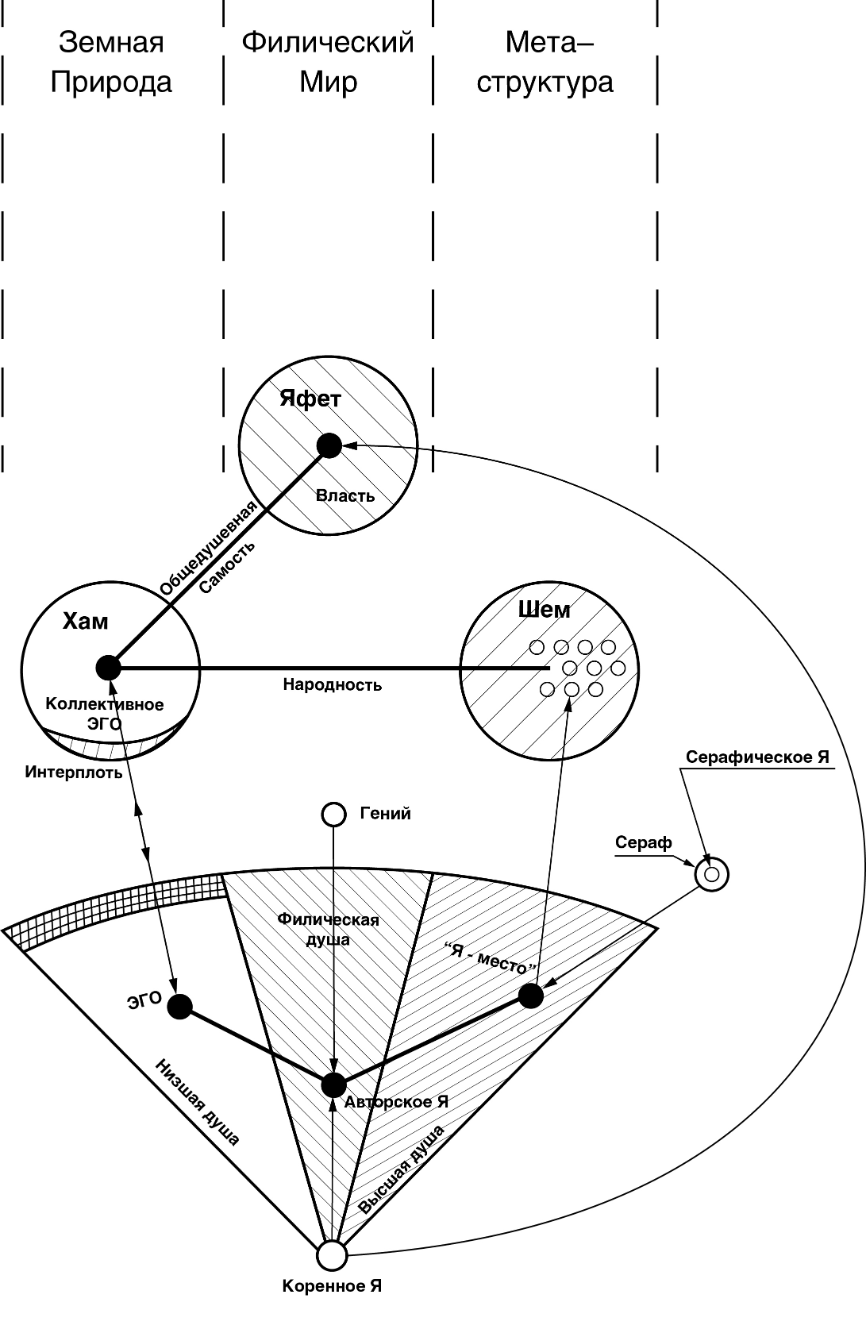И.Б.Мардов
Божественная Работа и Божественный Работник
Раздел второй. Общедуховная жизнь
Часть 5. Общая душа
1
Всечеловеческой духовной жизни нет. Вместо нее реально существует сфера общедуховной (совокупной, соборной, конфессиональной) жизни и сфера личнодуховной жизни, действующая не в какой-либо общности душ, а проистекающая из самой по себе единичной обособленной души с заключенными в ней силами и потенциями.
В человечестве всегда были и будут два типа людей. Жизнь преимущественно живущих общедушевной жизнью людей, которые избегают усилий сознания и напряжения воли, требуют твердых форм и простора для желаний, труда, отдыха и забавы. Усилия людей, живущих преимущественно серафической жизнью , направлены на то, чтобы, ограничивая себя и размышляя, накалять внутренний мир и усиливать духовную жизнь. Нельзя применять критерии, приложимые к духовной жизни высокопутевого человека, к духовной жизни одностадийного человека . Это вовсе не значит, что одностадийный человек не способен жить духовной жизнью. Он живет не личнодуховной жизнью сам в себе, а общедуховной жизнью вместе со всеми.
При отсутствии личнодуховной жизни человек включается своей личнодушевной жизнью в общедушевную жизнь и получает духовное питание от общедуховной жизни.
Можно быть общедуховно солидарным с другим человеком и при этом несовместимым с ним по складу личной одухотворенности. И наоборот, чувствовать близость друг друга в личной духовной жизни, но, принадлежа, скажем, к разным вероисповеданиям, отвергать друг друга в общедуховной жизни.
Есть личная одухотворенность и есть одухотворенность, обусловленная духовной сплоченностью народа. Последняя, пусть и в разной мере, доступна всем, взывает к каждой душе, которой нужно лишь внедриться в нее, чему люди охотно обучают друг друга. Обучить жить личной духовной жизнью никого нельзя. Можно помочь тому, кто способен и желает жить ею.
В общем случае мы имеем дело с общедуховными людьми, у которых нет потребности жить личной духовной жизнью и у которых серафическая жизнь еле-еле теплится. Они отдают «свою свободу» Общей душе. Они – опора Веры.
Человек не может одинаково полноценно работать и общедуховной и личнодуховной жизнью, хотя бы потому, что первая разработана и сработана во множестве вариантов, тогда как вторая (и ее Путь восхождения в том числе) – в становлении.
Начала личнодуховной и общедуховной жизни во многом не совпадают. Это означает, что человек должен либо выбрать одну из них, либо умело совмещать их в себе. Это совсем не просто. В реальности происходит то, что установки одной духовной жизни (обычно личнодуховной) ставятся на услужение другой.
Трудность в различении двух этих сфер духовной жизни состоит в том, что доминирующая в человечестве общедуховная жизнь не дает личной духовной жизни вполне и зримо явить себя. К тому же людям свойственно закреплять и хранить память только об общедуховных явлениях и именах, чаще всего оставляя в безвестности носителей высшей личной духовной жизни. Так что всё, что, так или иначе, принято считать духовной жизнью (вероисповедание и культ, культура и мораль и пр.), всё, что веками накапливается и передается в наследство другим поколениям, – все принадлежит жизни общедуховной.
Человек обычно воспринимает лишь то, что существует в сознании Общей души, внедрено в нее, вошло в обиход общедушевной и общедуховной жизни. Еще совсем недавно личная духовная жизнь, практически говоря, была возможна только в виде ересей, то есть под видом общедуховной жизни. И до сих пор духовную жизнь человечества – и ее проблемы и беды, и ее пороки и достижения, и ее удачи и поражения – определяет именно общедуховная жизнь.
Общедуховная жизнь доминирует в человечестве и подавляет личную духовную жизнь. Личная духовная жизнь не отчленена от общедуховной жизни, не вычерчена в осознании и не принята людьми как самостоятельная духовная жизнь. Люди склонны рассматривать свою личную духовную жизнь исключительно с позиций и во благо общедуховной жизни. Как будто опыт личной духовной жизни ценен лишь тогда, когда этим опытом можно воспользоваться для общедуховной жизни.
Лев Толстой – пророк личной духовной жизни и ее учитель. Он стремится перевести ударение духовной жизни в человеке с общедуховности в область личной одухотворенности. Задача эта была поставлена им во времена правления общедуховности, перекрывавшей пути самостояния личной духовной жизни. Чтобы личнодуховную жизнь поставить на рабочее место, необходимо было пробиться сквозь общедуховную жизнь. Конечно, установки личной духовной жизни и установки общедуховной жизни не следует сталкивать друг с другом, как это получалось у Толстого. Конфронтация между общедуховной и личной духовной жизнью незаконна.
2
Где духовная жизнь, там и Путь ее. Духовная жизнь отличается от душевной жизни тем, что задана наперед.
Путь духовного восхождения и преображения неустраним из духовной жизни. Каждому роду духовной жизни соответствует свой Путь, который характеризует ее. И у общедушевной жизни как таковой есть, по-видимому, свой генеральный Путь, но периоды и стадии его исчисляются не столетиями даже, а тысячелетиями, и потому не решают жизнь отдельного человека.
Общедуховная жизнь отдельного человека обусловлена не столько Путем общедушевного восхождения, обозреваемого сквозь века, сколько Путем его собственного внедрения в ту особенную общедуховную жизнь, которой в данный исторический момент живет конкретная Общая душа. Через общедушевную и общедуховную жизнь человек жестко включен в свое поколение и принужден согласовывать с его требованиями свою внутреннюю жизнь.
Процесс общедуховного восхождения отдельной души есть процесс включения и погружения ее в консервативный поток духовной жизни Общей души. Погрузившись в него, человек может попытаться изнутри чуть-чуть изменить направление течения этого потока, что при успехе дела воспринимается в качестве революционных новаций. Обычно эти новации (возможно, по большей части идущие от личной духовной жизни) связаны не только с изменениями во взглядах, но и с изменением практики духовного воспитания и вхождения человека в общую духовную жизнь. Опрометчивые и непроверенные изменения Пути общедуховного внедрения в состоянии погубить духовную жизнь Общей души и, вполне справедливо, редко когда допускаются ею. Одно это обстоятельство способно ввести общедуховную жизнь в конфликт с личной духовной жизнью.
Личная духовная жизнь элитарна, а на высших своих ступенях и экзотична. Путь личной духовной жизни, по сути, не осмыслен человеком. Общедуховная жизнь же раскрыта для всех и в той или иной степени доступна всякому, кто готов жить по ее канонам. Отдельная душа берет нечто из общедуховной жизни, пропускает через себя и возвращает взятое обратно в общедуховную жизнь. Впечатление такое, что в реальности личная духовная жизнь либо мешает общедуховной жизни, либо обслуживает ее.
Грехопадение Адама в Саду Эдема – первое грехопадение человека, грехопадение его личной душевной жизни. Вавилонское строительство есть второе грехопадение человека – на этот раз его общедушевной жизни.
Вавилонский эпизод Библии не только и не столько рассказ о наказании и разделении человечества на народы, сколько рассказ о спасении его через образование в нем Общих душ.
Общие души не даны, а заданы и формируются народами в процессе Истории. При этом изначальное дообщедушевное состояние не ликвидируется, а постепенно преодолевается в общедуховном росте и становлении.
В осевое время – время Конфуция и Лао-Цзы, Будды и Заратустры, Исаии и Сократа – впервые в человечестве возникает духовное напряжение, которое с тех пор все более и более определяет жизнь людей.
«Все то, что существовало до осевого времени, – пишет К. Ясперс, – пусть оно даже было величественным, подобно вавилонской, египетской, индийской или китайской культуре, воспринимается как нечто дремлющее, не пробудившееся». Происходящее в осевое время К. Ясперс прямо называет одухотворением человеческого бытия. Впервые в этот момент «человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения. Осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познает абсолютность в глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира». «Человек уже не замкнут в себе, – пишет Карл Ясперс, – он способен теперь слышать и понимать то, о чем до этого момента никто не спрашивал и что никто не возвещал. Неслыханное становится очевидным».
Это, несомненно, картина некоего душевного рождения, рождения душевных личностей и Общей души. Картина эта соответствует тому, о чем рассказано в финале вавилонского эпизода Библии: Господь спускается к людям и тем самым создает потенцию для совместной духовной жизни людей. По К. Яспер-су, в осевое время произошло «посвящение человечества в тайну неизведанных возможностей», посвящение, которое «открыто дневному свету, преисполненному безграничного желания быть воспринятым, охотно допуская любые проверки и испытания, показываясь каждому» народу.
В отличие от «непосвященных» народов, живущих в состоянии коллективного эго, посвященные («исторические») народы живут в новом и высшем состоянии – состоянии Общей души. Осевое время можно понять не как время возникновения Общих душ, а как момент рождения общедушевности в человечестве и посвящения коллективного эго некоторых народов в Общую душу. «Все последующие народы, – замечает Карл Ясперс, – становятся историческими в зависимости от степени интенсивности, с которой они отзываются на свершившийся прорыв, от глубины, на которую он ими ощущается», и от внутренней готовности к нему.
По до сих пор властвующему эволюционному взгляду человечество постепенно прогрессировало, духовно облагораживалось, копило разум и культуру, качественно восходя с низшей ступени на высшую, все выше и выше, и так дожило до наших дней. Но на развитие человечества можно взглянуть иначе. В некие определенные моменты в человечестве, надо полагать, не без помощи свыше, происходят духовные прорывы, например, совершаются рождения общенародных душ, в результате чего этносу или этносам сообщаются высшие качества и силы, до той поры им неведомые. На интенсивность психической энергии после совершенного прорыва накладывается иная интенсивность, интенсивность одухотворения, все более и более превращающая коллективное эго в Общую душу.
Это, однако, лишь начало процесса. В историческом времени Общая душа окончательно никогда не выстроена, не завершена. В момент духовного прорыва человеческая общность обретает способность общедуховного роста, с помощью которого возводится Общая душа.
Посвященные народы в Истории все более и более становятся Общими душами или – гибнут.
В дообщедушевные времена племена и народы живут в магическом единстве «мы». Такое «мы» при-родно и космично, соответствует психофизиологическому составу человека и собирает людей вместе на интерпсихическом уровне. Но это не интердушевное объединение людей, не Общая душа, – вообще еще не душа. Такое интерпсихическое объединение мы и называем коллективным эго.
Не будучи душой, коллективное эго духовно не напряжено, не способно жить духовной жизнью и потому смертно, как всякая животность. В коллективном эго нет идеально-направляющей силы общественной жизни, нет цели, нет и смысла. Коллективное эго становится Общей душой тогда, когда сообщество людей получает возможность вместе жить общедуховной жизнью. Общая душа – единство душевное и единство мистическое, способное ставить высшие цели и жить не только этнической, но и соборной жизнью. Общая душа способна обитать в одном или разных этносах. Через Общую душу человек обретает сознание своего масштаба в Творении. Любую Общую душу, как и всякую иную, способную к одухотворению душу, не понять рассудком. Тогда как коллективное эго, вообще говоря, доступно для аналитического сознания, интеллектуально постигаемо.
Коллективное эго – полубезличный организм, живущий в силу общности человеческой психики и человеческих потребностей. Чувство жизни коллективного эго, при всей его властности, крайне неотчетливо. Коллективное эго – неотчетливая целостность, не имеющая имени. «Получить Имя» для коллективного эго значит обрести центр сознания себя и стать наподобие личности. Общая душа есть становящая себя особость, всегда уповающая и ждущая чего-то такого, о чем коллективное эго не в силах помыслить.
Каждое коллективное эго отчуждаемо от других коллективных эго и не может не быть чуждой им. Общая же душа не отчуждена от других Общих душ; она только уединена в человечестве в целях продуктивности собственной общедуховной жизни.
Коллективное эго – натуральная стихийная сращенность отдельных воль и стремлений, вызванная общностью судьбы в составе принудительного единства совместного проживания. Люди в коллективном эго приурочены друг к другу бытием и бытовым жизнепониманием, сплавлены взаимной психофизиологической симпатией. Норма же взаимоотношений в Общей душе – содружество людей, основанное на метапсихическом чувстве ближнего. Общая душа в сравнении с коллективным эго качественно иное, высшее, транспсихическое единство людей, их сокровенная духовно-кровная сродненность, основанная на душевной сопринадлежности друг другу, на солидарности, возникающей из общего образа одушевленности и стиля одухотворенности. Человек принадлежит Общей душе не по рождению (или не только по рождению), а и на основании духовного опыта своей души – присущего ей и нажитого. Целомудренность чувства святыни своего народа возможно только в Общей душе.
Коллективное эго магически образовано как бы прежде всякого отдельного Я. «Я» для коллективного эго обладает вторичной реальностью. Коллективное эго принципиально неразделимо на отдельные человеческие Я. Право на существование в нем имеют лишь те знания и умения, которые признаны общезначимыми. Каждый индивидуум обязан существовать в качестве сосуда коллективного эго. Поэтому в таком коллективном целом нет представлений о душевно-духовно великом. Это царство усредненного, которое не дает взойти выдающейся душе или насильно принижает ее.
Коллективное эго строится на абсолютизации воли надиндивидуального организма и на варварском пренебрежении каждого к себе и своей душе. Общая душа строится на уважении человека к себе и своим высшим ценностям. Выдающаяся личность чувствует Общую душу в себе и себя в ней. Общая душа полнее всего и выразительнее всего живет не в усредненной, а в выдающейся личности. Эта личность желает знать себя вершиной Общей души и именно в качестве вершины чувствует свою ответственность перед нею.
Коллективное эго, как некогда вавилонские строители, никогда не способны «отстать от того, что делают». Оно неизменно и постоянно повторяет самое себя (словно повинуясь идее развития по спирали) и, реализуя в зависимости от ситуации те или иные свои свойства, силится сохранить самоидентичность. Общая душа способна на неповторимые действия. В такого рода действиях она более всего и живет.
По инерции двигаясь во времени, коллективное эго не живет в Истории, плохо помнит себя, исторически беспамятно. Общая душа движется в историческом времени куда-то, растет к чему-то. Ей нужно не только знать прошлое, но и предвидеть будущее, видеть себя в будущем иной, чем она была и чем она есть сейчас.
Коллективное эго – как бы завершено, ему, по сути, нечего делать в жизни; и потому оно может быть разом сломано, разрушено, убито. Общая душа никогда не завершена, не совершена, она развивается, растет и потому может рухнуть в результате своей духовной несостоятельности.
3
Когда говорят о душе народа, национальном духе или Общей душе, то в представлении непременно возникает нечто целое, которое существует над и между людьми, которое включает в себя человека и делает его частью себя. Но Общая душа не результат гипостазирования интерпсихических явлений. Общая душа не интердушевное образование, не то, что существует между душами. Общая душа не между душ и не над ними, она не есть их сложение или совокупность. В интердушевном поле протекают некоторые определенные процессы жизни Общей души. Каждый из нас ощущает свою зависимость от этих процессов, но общедушевно, как и личнодушевно, живет все же в самом себе.
Структура внутреннего мира человека содержит неслиянные и неразрывные стороны. В Структуре человека есть личнодушевная (личнодуховная) сторона и есть сторона, которая образует Общую душу и реализует себя иначе, чем личнодушевная сторона.
Общая душа – это собственно общедушевная сторона внутреннего мира отдельного человека.
Общедушевное, а тем более общедуховное влияние нельзя считать внешним влиянием. Общая душа действует изнутри человека.
Общая душа это та сторона Структуры, которой внутренний мир человека обращен к людям своего народа. Свой народ существует благодаря тому, что в Структуре есть общедушевная сторона. Человек не может быть совершенно необщедушевен – признает ли он важность национального чувства, или нет. Общая душа непроизвольно и непременно вырастает на базе взаимодействия общедушевных сторон внутреннего мира отдельных людей.
Общая душа не существует сама по себе, вне живущего человека. Общая душа жива, пока есть ее живой носитель – народ. Носитель личнодуховной жизни – отдельный человек, общедуховной – народ. Когда народ прекращает существовать, то распадается и его Общая душа.
Структура Общей души не несет в себе «Я», как личнодушевная Структура. И потому Общая душа представляется безличностной или внеличностной. Но это не совсем так.
У Общей души есть свои мнения и своя нравственность. Она лицемерит, ненавидит, любит, боится и страдает, подобно душе отдельного человека. Общая душа в чем-то мужская, в чем-то женская. Инстанции общедушевной стороны Структуры во многом соответствуют инстанциям, составляющим личнодушевную сторону. В общедушевной стороне есть свой Блок душ, общедушевный Блок. Есть своя Самость (общедушевная Самость) и есть то, что в Общей душе исполняет функции «авторского Я». В Общей душе может действовать и «Бог свой». Есть у Общей души и свой Путь. Есть и свой Блок Управления.
Душа отдельного человека, вообще говоря, не есть часть Общей души. Напротив, это Общая душа есть часть отдельной души. В Структуру внутреннего мира человека внедрено подобие Я Господа, коренное Я человека. В общедушевной стороне Структуры коренное Я действует «общедушевно» – как Я-МЫ. Коренное Я, оставаясь «Я», становится МЫ в общедушевной жизни. Не МЫ включает в себя Я, а коренное Я порождает из себя Я-МЫ. В более или менее задействованном виде МЫ существует в человеке как таковом. В каждом есть «Я», его личнодушевная жизнь, и есть «МЫ», его общедушевная жизнь.
Общая душа это та сторона внутреннего мира каждого человека, которой придано «МЫ». Общедушевная сторона выражает способность лично незнакомых людей быть в единстве МЫ. Все те, которые несут в себе одно и то же «МЫ», становятся общедушевными «ближними».
Когда мы утверждаем, что «Я» у всех одно и тоже, то имеем ввиду коренное Я. МЫ у каждой Общей души свое. МЫ – не совокупность людей, не сообщество. Общедушевное МЫ произведено от коренного Я и есть один из субъектов внутреннего мира человека.
Структура внутреннего мира человека управляется Блоком Управления, в который входит свободный ЦУ «Я». Свободный ЦУ «Я» имеет разные ракурсы в трех сторонах Структуры. Я-МЫ – общедушевный ракурс ЦУ «Я».
Функции ЦУ «Я» в общедуховной стороне Структуры выполняет ЦУ МЫ. Общедушевное МЫ – не двигатель, а Центр Управления Общей души.
Сила убежденности общедушевной жизни многократно превосходит силу убежденности личнодушевной жизни. На отдельного человека ЦУ МЫ действует с принудительной силой, превышающей силу ЦУ «Я». Многие люди принимают МЫ за (или вместо) своего «Я».
Чем более вялое ЦУ «Я», тем охотнее оно внемлет призыву МЫ работать в общедушевной стороне Структуры. Такой человек нравственно ответственен в силу МЫ, но не в силу своего «Я».
Одностадийный человек обеспокоен исключительно жизнечувствованием своей Самости. Самость же всегда обеспокоена тем, как она звучит среди людей, и включена в качестве ячейки в Общую душу.
Человек с действующей серафической личностью и в общедуховности живет самостоятельно.
Общедуховное МЫ всегда склонно принять вновь рожденное серафическое лицо, перевести его на себя, дать ему все требуемые им установки чувства и сознания духовной жизни. Надо ли говорить, сколь важно присутствие людей серафической жизни, то есть людей, ответственных в своей личнодуховной жизни, в Общей душе, в составе народа. Нет адепта общедуховной жизни, достигшего общезначимых результатов, не личностнорожденным.
МЫ – свободный ЦУ, но его действие в отношении отдельного человека представляется несвободным. Переживание МЫ схоже с переживанием несвободного ЦУ. Понятие свободного и несвободного ЦУ не применимо в отношении ЦУ МЫ. Полусвободный ЦУ МЫ в общедушевной жизни Структуры отчасти соответствует свободному ЦУ Я в личнодушевной.
Плотско этническое начало участвует в деятельности несвободного управления каждого человека, но в каждом действует по-особому, накладывая родовой фон, и этим определяет работу Блока Управления Структуры. Условно и отвлеченно можно говорить о плотскоэтническом начале, но нельзя выделить это начало или его сигналы управления. Сигналы ЦУ МЫ и ЦУ Я вполне различимы. Но несвободный ЦУ один и тот же на личнодушевную и общедушевную стороны Структуры. Хотя ЦУ «Я» находится в некоторой потенциальной или актуальной оппозиции к ЦУ тела, а ЦУ МЫ живет в содружестве с ним.
Блок Управления на общедушевной стороне каждого ищет совместности работы с Блоком Управления других людей. Работа несвободного ЦУ Блоков Управления общедушевных близких имеет общие черты, благодаря которым реализуются потребности общедушевной стороны Структуры. Этническая близость – близость общего стиля и характера работы несвободного ЦУ людей.
Блок Управления в двух сторонах Структуры действуют и как свободный ЦУ Я личнодушевной жизни, и как полусвободный ЦУ МЫ Общей души и несвободный ЦУ тела, обслуживающий и ту и другую жизнь. Формулу Блока Управления следует переписать: «(Я и МЫ)-в-теле»
4
Общая душа живет собственной жизнью, и у нее свой принцип жизни.
При взаимодействии тела с внешней средой, при его питании, дыхании и прочем, в нем происходит обмен веществ, который составляет необходимое условие продолжения жизни тела. При взаимодействии людей друг с другом между ними непроизвольно или произвольно идет, никогда не прекращаясь, взаимообмен жизнью. При всяком общении и в каждое мгновение кто-то из нас отдает другому частицу энергии своей жизни, а кто-то получает от другого или других жизнь в себя; или отдает на одном уровне жизни, получая на другом.
Никто не в состоянии удержать всю свою жизнь в одном себе. Чтобы жить, надо постоянно излучать жизнь из себя, отдавать жизнь и получать жизнь в себя. Обмениваясь с другими жизнью в себе, вступать в соединения своей жизни с жизнью в другом или других – вот неустранимая потребность, приданная всему живому, и особенно человеку.
Будучи в составе Общей души, люди так или иначе замкнуты друг на друга и обмениваются жизнями друг с другом. Общая душа есть та сфера жизни, где между людьми через их душевное сочленение происходит на разных пластах Структуры накатанный взаимный обмен жизни одного с жизнью других и всех. Принцип жизни Общей души – взаимообмен ресурсов жизненности: психофизиологической, филической или жизненности высшей души. Все дело в роли той или другой и в их сочетании.
Каждое существо принуждено жить со всеми теми, кто обитает рядом. Птица, дерево, цветок чувствуют мою жизнь рядом с собой, а я чувствую их жизнь. Мы живем в единстве принудительного взаимообмена общеприродной жизни, не можем вынуть из себя друг друга, интерплотски зависим друг от друга, солидарны как «земляки», в единстве места нашей жизни. Совокупная общеприродная жизнь определенного места Земли заключает меня в себя и входит внутрь меня, содержится в общедушевной стороне моего внутреннего мира.
У Общей душе нет своего «тела», но есть сфера интерплотского единения, свитая с областью интерпсихического взаимообмена жизненностью, образуемой от взаимодействия низших душ людей и являющейся аналогом низшей души отдельного человека.
Тело человека со структурной точки зрения есть граница отделенности внутреннего мира одного человека от внутреннего мира другого. Так же и родная Земля, есть область зримой отделенности одной Общей души от другой.
Есть наружные области плоти, которые воспринимают мир, а есть внутренние области плоти; в том числе и интерплоть, которая Мир почти не воспринимает, а служит образованию фундамента Общей души. Интерплоть – не несвободный ЦУ Общей души, она входит составной частью в ее фундамент.
Общеприродную жизнь места своего проживания я чувствую не во вне, а в себе. Люди одного народа интерплотски связаны этим чувством. Родина – душевное единство. Она по-матерински питает каждого энергией плотской жизни, но не столько физиологически и не только тело. Часть народа, оказавшаяся в иных краях, лишившаяся непосредственного контакта со страной предков, до тех пор пока остается в составе народа, все же хранит в душе родную землю как общедушевное чувство. Это – естественная заготовка фундамента Общей души, на котором держатся все другие инстанции ее Структуры.
О трех душах душевного Блока можно говорить только относительно личнодушевной стороны Структуры. Что же до общедушевной стороны, то в ней не три души, а три пласта некого целого – общедушевного Блока Структуры. С одной стороны, человек тридушевное существо, с другой, он ячейка Общей души, к которой принадлежит. Иллюзия неразъемной целостности внутреннего мира человека возникает оттого, что человек по преимуществу знает себя общедушевным существом.
Три души личнодушевной стороны достаточно независимы, чтобы быть в своих стремлениях одна против другой. Три пласта Общей души пригнаны другу к другу куда плотнее, чем три души в личной душевной жизни, и более зависимы друг от друга в работе Общей души.
Если Адам – родоначальник личной душевной жизни, то Ной – родоначальник Общих душ человечества и общедушевной жизни как таковой.
Три пласта общедушевного мира человека равноправны и равнодостойны. Они олицетворяются нами тремя сыновьями Ноя: Шемом, Хамом и Яфетом.
Хам осуществляет единство Общей души через интерплотское и интерпсихическое единение, в котором происходит взаимообмен теплоты психофизиологической жизненности и образовывается целостная интерпсихическая воля – исполняющая воля Общей души.
Яфет осуществляет общедушевное единение на филическом уровне, создавая общее метапсихическое жизненное пространство – пространство единой морально-культурной и интеллектуальной жизни.
Шем*) осуществляет собственно общедушевное единение на уровне высших душ. Это единство основано как на общем (религиозном) жизневоззрении и миропонимании, так и на нравственно ответственном чувстве ближнего. Шемова сторона Общей души несет и религиозное чувство и религиозное сознание.
Общая душа не только этническая общность, и не только общность по вероисповеданию, и не только общность языка и культуры. Каждый конкретный человек может примыкать к Общей душе по Хаму (и коллективному эго), может по Яфету (но не по Хаму), может по Шему. Это дело личное. Сама Общая душа всегда единство Шема, Хама и Яфета.
Как определить Общую душу, чтобы каждого человека по какому-то признаку можно было приписать или не приписать к ней? Общая душа существует как самобытное человеческое существо, а кого она включает или не включает и как, значения не имеет. Общая душа включает в себя отдельных людей, но не состоит из отдельных людей.
Общедушевная сторона внутреннего мира человека находится под исключительным управлением МЫ – общедушевном ракурсе свободного ЦУ «Я» Структуры. Тот, кто несет в себе МЫ Общей души, тот и принадлежит ей.
* * *
Сила потребности сочетаться жизнями друг с другом и переживание человеком этой потребности сродственно силе любви. Так что Хам существует в силу интерпсихической (в широком смысле эротической) любви, Яфет – филической любви, Шем – общедуховной любви, в которой устанавливается и действует иррациональное чувство общедушевного ближнего.
Любить как самого себя, словно свое другое Я – точная формула сторгической любви. Любить ближнего словно самого себя – сторгический принцип, устанавливающий высшую степень общедуховной сплоченности.
В личной сторгиодуховной жизни, в сожизни своего Я и своего другого Я, ближний не дан и не задан, а создается в трудной и сложной душевной работе. В со-чувствовании, со-мыслии, со-действии людей в общедуховности ближний задан, определен той сплоченностью, в которой состоит общедушевная сторона Структуры человека.
Ближний в Пятикнижии Библии – человек своего народа, общедушевный ближний. Библия предлагает каждому любить общедушевного ближнего своего сторгически, словно сторгического ближнего.
Любовь к ближнему словно к самому себе – сторгическое общедушевное чувство, которое человек в глубине души сознает высшей ценностью своей жизни.
У каждой Общей души особенная психофизиологическая близость земляков, близость по Хаму. У каждой Общей души свая интерфилическая, культурная близость, близость по Яфету. У каждой Общей души своя особенная – русская, немецкая, французская – сторгичность, близость по Шему.
Шем – метафизические и нравственные переживания, свойственные определенному народу. Близость по Шему не вытекает из совместного бытия и этнического сходства солидарность душ в стиле жизнечувствования Общей души. Шем – общедушевная сторгичность, подкрепленная общим жизневоззрением, общим Вероисповеданием, традиционными нравственными установками жизни общества и общедуховной властью.
Требования сторгической общедуховной любви не невозможные идеальные требования. Без крепости сторгической общедуховной любви невозможна полноценная жизнь Шема и, значит, Общей души.
В общедушевности Хама эротический обмен кипящих жизней идет в пласте действия низших душ. Осуществляемое Хамом интерпсихическое единство жизни есть соединение действующих в событийной жизни воль. В интерпсихическом общедушевном поле происходит взаимодействие исполняющей воли низшей души одного человека с волей всех. Хам действует на том поле единства жизни, в котором свобода обмена жизнями осуществляется как свобода вбирать в себя жизненное тепло другого, принимать и использовать в себе и для себя психическую жизнь других.
Для коллективного эго, особенно прочно сплоченного на интерпсихическом уровне, важнее всего нераздельность единиц целого, магическая сращенность отдельных людей. И тут, конечно, идет обмен жизненностью между волями одной и другой животной личности. Но сами они подавлены и потому не обеспечивают полноценное интерпсихическое кровообращение в обществе.
В отличие от унифицированной жизни коллективного эго, в жизни Общей души необходимо ясное различение фигур. Психофизиологическое бурление в Общей душе тем полнее и жизненнее, чем более разнообразны и самобытны отдельные психофизиологические особы, действующие в хамовой общедушевности. Утрата психической многоликости погашает Общую душу. Психическое многообразие и разноголосие -богатство Общей души. Эта многоликость и все это богатство должны вмещаться в некий общий психический тип, обладающий своехарактерной волей, – в образ Хама данной Общей души. Специфика Хама в некоторых чертах отражается на физиологии народа, в том числе и его облике. Хам – психическая топика Общей души и вместе с тем ее сквозной психический и интерпсихический образ.
Интерплотский и интерпсихический уровни свиты в сознании общего Строя, и цементируются этнической разумностью, ведением этноса, несущим в себе заряд убежденности, воспитывающий жизнечув-ствование и направляющий волю этого Строя.
И коллективное эго имеет, конечно, свой Строй, свой групповой разум, свой этнический закон, который обслуживает и укрепляет его. Групповой разум в коллективном эго есть, так сказать, дополнительное средство, призванное подтверждать и ментально утверждать его конститутивные свойства. Групповой разум в коллективном эго ужесточает порядок и стагнирует сообщество.
Этнический разум Общей души – не слуга в ней. Он возвещает правила поведения и прикладывает их к хамовой общедушевности. Этнический разум дает Хаму метапсихический закон течения его жизни, задает ему его конституцию, без которой Общая душа вырождается. Этнический общедушевный разум на правах законодателя входит в сам образ Хама и тем обеспечивает его душевную целостность и жизнестойкость. Надо ли говорить, что этнический разум Общей души ни в коей мере не обедняет ее психически, но устанавливает разнонаправленным волям людей критерий законности или беззаконности действий. Свитые вместе интерплотский и интерпсихический пласты общедушевности становятся – под действием и управлением этнического разума – душевной целостностью, составляющую нижнюю половину Общей души, в которую входит ее фундамент, и которую мы называем Этносом.
5
В не помраченном плотью состоянии человек действует на основании жизневоззрения, своего собственного (что бывает чрезвычайно редко) или принятого на веру от своей Общей души. Жизневоззрение – шемово общедуховное (религиозное в широком смысле) богатство. Оно добывается поколениями мудрецов (охотников мысли) и ставится на стол кулинаров мысли, которые составляют общеморальные законы и прочие общедушевные установления, руководящие конкретной жизнедеятельностью всех тех, кто принадлежит Общей душе. Жизневоззрение же обеспечивает градацию ценностей жизни, определяет сознание собственного достоинства и чувство позора.
В общедушевности Шема реализуется высшая свобода обмена жизнью в Общей душе – духовная свобода совмещения жизней на уровне высших душ. Шем основан на сторгическом чувстве и осуществляет не сожительство и сосуществование, а со-жизнь, взаимоодушевленность, взаиможизнь, предполагающую самоотречение по чувству душевной ответственности за общедушевного ближнего. Образ ближнего своего – это не образ какого-то другого человека, а свой собственный образ в общедушевной жизни. Образ этот по своей природе идеален, в нем – всё, что любят, что общедушевно желает и ждет всякий в составе Общей души.
В каждой Общей душе люди переживают друг друга в шемовой общедушевности по-особому. Человек несет в себе некий идеальный образ ближнего народа своего. Национальная одушевленность из века в век сохраняет свой характер переживания радости и боли ближнего, свой особенный образ народного братства, любовности и ласковости внутринациональных взаимоотношений, душевной ответственности и жалости; и, конечно, свой особенный идеальный стиль самоотреченности – во всех ее ступенях, начиная с участия и предупредительности повседневного общения и кончая высшими образцами самоотреченного прохождения всей жизни.
Жалость – что-то чрезвычайно значительное в человеческой жизни. Каждый человек в процессе жизни находится в состоянии то жаления, то вымогательства жалости, то возбуждения на нее или ею, он отдает жалость или получает ее, устремлен ею или ею отталкивается. Впечатление такое, что жалость есть то проявление жизни, которое проявляется вместе с самой человеческой жизнью. Есть жизнь в человеке, есть и жалость. Жалость неустранима из человеческой жизни. Каждую Общую душу и ее различия можно самоопределить по отношению к жалости и переживанию жалости.
Интердушевной взаиможизни высших душ нет в коллективном эго, где люди более всего сочленены в пласте низших душ. Коллективное эго – всегда дано. Шем – становящееся интердушевное единение, стремящееся стать единством. Чем взрослее Общая душа, чем ближе она к зрелости, тем сильнее и полнее проявляется в ней ее чувство ближнего, и тем она крепче и прочнее. Рост общедушевной любовно-сти – все большая и большая одухотворенность народа в чувстве ближнего – главенствующее условие жизнеспособности Общей души. Общая душа в опасности, когда Шем беднеет любовью. И расцветает, оживает, когда обогащается ею.
Общедушевная жизнь Шема вырабатывается не отдельным человеком, а многими поколениями народа. Она существует благодаря исходной близости высших душ, тем именно и сильна. Шемова жизнь наследуется общедушевно, и в не меньшей степени, чем плотская жизнь наследуется национально.
Сфера Шема и сфера Яфета не образуют структурное целое. Тем не менее, они существуют вместе в Общей душе, благодаря мощному единящему действию соборного разума, сочетающего разум Шема и разум Яфета.
Соборный разум – верхняя составляющая общедушевного разума, содержащая ответы на главные вопросы человеческой жизни, и то ведение Бога, Мира, Жизни, Истории, самого себя, которое определяет основные задачи жизнепрохождения человека. Говоря о ведении Бога, Мира и самого себя, я имею в виду не мистическое знание тайн Наивысших Сущностей, а то высокое знание, которым устанавливается положение общественного человека в отношении основных Сущностей. Прежде всего, это взгляд человека на Всевышнего, на Его отношение к человеку и на отношение человека к Нему. Это и основа мировоззрения человека, то есть тех его представлений о Мире, из которых вытекает направляющая установка отношения к Миру. Это и основа жизнепонимания человека, из которой вытекает его понимание своей задачи в жизни, ее целенаправленности и смыслонаполненности, должного прохождения дистанции жизни от рождения до смерти и понимание основных ценностей и их градация на этом пути. Это и отношение человека к смерти и посмертному существованию. Это, наконец, общие представления человека об Истории, ее процессе, ее цели и ее завершении.
Свечение соборного разума сквозь яфетическую жизнь мы обнаруживаем в «идеях» и «принципах» культурного слоя и в тех общих «законах этики», которые обеспечивают морально-культурную солидарность общества. В каждом новом поколении знание соборного разума обкатывает себя в яфетической (филической) общедушевности, иногда заново обкатывает себя.
Духовный рост соборного разума, по-видимому, использует яфетическую общедушевность в качестве своего испытательного полигона. Борьба «идей», моральных установлений и ценностей внутри остающейся единой Общей души – вот обычная работа соборного разума на своем собственном филическом плацдарме.
Общая душа не обеспечена инстанцией Шем-Яфет, подобной верхнему человеку или серафической личности. Хотя общедуховная и общекультурная составляющая Общей души, конечно, притерты друг к другу и взаимодействуют. Яфет всегда может разорвать свои партнерские отношения с Шемом, даже противопоставить свои установки религиозно-нравственным шемовым установкам и действовать, как ему заблагорассудится. В отношениях Шема и Яфета нет прочности общедушевной инстанции.
Общая душа содержит два основополагающих элемента: общедушевную Самость, соответствующую Самости личнодушевной жизни, и Народность – инстанцию, соответствия которой нет в Структуре отдельной души.
В Структуре Общей души нет аналога серафической личности – инстанции духовной жизни. Структура общедушевной стороны не полная. Это означает, что в общедуховном смысле человечество еще недосозданно.
Общедушевная Самость и Народность опираются на одно и то же основание Хама, но живут разной жизнью. Общедушевная Самость, как и Самость личной душевной жизни, живет совокупной жизнью двух пластов общедушевности: филического и интерпсихического, Яфета и Хама. Народность живет совместной жизнью пластов общедушевности Шема и Хама.
Без Хама Общая душа распадается. Не Яфет (как было бы в трехдушевной Структуре), а Хам структурный скреп Общей души. Его связь с Шемом и Яфетом куда прочнее, чем Шема с Яфетом, которые моментами могут жить независимо друг от друга. Именно Хам держит Общую душу в целостности.
Яфет способен выйти из общедушевности, стать внеобщедушевным, жить сам по себе, но, если он остается в Общей душе, то практически никогда не разрывает с Хамом (это одни декларации), обязательно находится в жесткой связи с ним и работает вместе с ним в составе общедушевной Самости.
Общедушевная Самость – наружная область Общей души, обращенная к другим Общим душам; она проживает среди других Общих душ и с ними взаимодействует в Истории. Народность живет имманентно, в глубинах Общей души и определяет собственное, безотносительное к другим, внутреннее самочувствие Общей души.
Народность и национальная Самость соответствует двум основополагающим переживанием Общей души. Национальная Самость – национальное интерпсихическое переживание совместно с общекультурным переживанием Яфета. Народность – общедушевное сторгическое переживание совместно с интерпсихическим переживанием. Народность – идентичность народа от глубинной сочлененности сторгической общедушевности и этнической близости. Народность – общая этносторгичность – вместе сторгическая и этническая близость. Религиозное Исповедание осуществляет сплоченность этнической общедушевности и сторгической общедуховности в Общей душе. Само Исповедание сильно интерфилической спаянностью вероисповедальческими чувствами и представлениями.
Сторгичность Шема не хранится в генах, не хранится в генах и Народность. Сторгичность Шема и Народность существует, поскольку существует Общая душа и только тогда, когда она существует. Требования сторгической общедуховной любви не невозможные идеальные требования. Без крепости сторгической общенациональной любви невозможна полноценная жизнь народа.
Народ превращается в толпу не по низменности интересов и не тогда, когда перестает слышать своих идеологических наставников, а когда из народа уходит его сторгичность.
Народность – душа народа в узком смысле, собственно «душевность» его. У Народности два основания, в ней совмещаются тепло сердечности общедушевного чувства ближнего и стихийная, природно-психическая теплота народно-земляной общности. В Народности Общая душа персонифицирована в конкретном душевном складе, поддержанном и высвеченным психофизиологическими чертами.
Есть народы (или есть состояние народа), в общедушевном мире которых действует только общедушевная (в этом случае – национальная) Самость. У них нет своего Шема, Шем заимствован и пока не стал своим, не окрасился в общедушевные цвета и не создал Общую душу. Национальная Самость свидетельствует об определенной стадии становления Общей души.
Различить Самость и Народность проще всего с точки зрения недругов народа. Когда им надо повергнуть чужую общедушевную Самость, они ее осмеивают; Самость поражаема смехом. Когда же они хотят унизить или поразить чуждую Народность, то они пытаются ее очернить, представить в качестве нравственно дрянного или дряблого.
Качество хамовой общедушевности в составе Народности и в составе общедушевной Самости разное. Будучи в едином котле с интердушевностью Шема, интерпсихическая общедушевность Хама куда менее агрессивна, жадна и самовластна, чем, когда она состоит в общедушевной Самости. Даже сам образ Хама двоится в зависимости от той структурной инстанции, в которой он взят. В общедушевной Самости хамова сила действующая, непосредственно производящая волящее движение; в Народности она создает душевную напряженность, более являясь объектом действия, чем действует сама.
Хам общедушевной Самости имеет черты толпы, с ее легкой внушаемостью, стремлением к имитативности и склонностью к унифицированности. Черты Хама в Народности другие: теплота этнической солидарности, не нуждающаяся в гипнозе, интерпсихическом раздражении, возбуждении и слепой взаимоимитации. Интерпсихика Народности обращена к личностно-душевной индивидуальной жизни. Интерпсихика общедушевной Самости от нее отвернута, ее подавляет и этим напоминает коллективное эго.
Народность – общий дом Шема и Хама. Никто из них не хозяин в доме этом. Шем живет вместе с Хамом, исподволь задает тон их совместной жизни, облагораживает Хама своей близостью и возвышает его своей «благодатью». Именно сокровенное действие Народности характеризует внутреннее достоинство Общей души. Яфетическое начало, в принципе, может помогать Народности в ее работе и росте. Возможно когда-то, столетия назад, так оно и было. Возможно так оно когда-нибудь будет. Но не теперь.
В доме общедушевной Самости живут вместе Хам и Яфет. Это боевое сотрудничество. Так что в доме этом всегда должен быть Хозяин. На начальных этапах становления Общей души хозяином был Хам. Теперь повсеместно главенствует Яфет. Хотя он и старается скрыть, что находится в неразрывном единстве с Хамом, даже когда правит им, а не обслуживает его.
Нынешние общедушевные Самости Западного мира утверждают себя, прежде всего, в культурном, интеллектуальном, правовом, филио-государственном действии. Склад характера общедушевной Самости теперь, больше чем когда-либо, обуславливается Яфетом. Это увеличивает опасность того, что народ, скажем, вступая борьбу с другим народом, самовозвеличится в своей общедушевной Самости, которая подавит его Народность.
Общая душа живет, как и все живое: пульсируя и колеблясь. В одну сторону – активизируется чувство-сознание общедушевной Самости и ослабевает чувство-сознание Народности; в другую сторону – наоборот: активизируется, высвечивается Народность и затеняется общедушевная Самость. Такие качания «Нация-Народность» отражают корневые приливно-отливные процессы жизни Общей души в целом. Общая душа на приливе, когда живет Народностью, и на отливе, когда живет Самостью. Фаза прилива или отлива, в которой находится в данное время Общая душа, есть важнейшая характеристика ее состояния. Болезнь гипертрофии национальной Самости подстерегает всякую Общую душу на отливе.
В духовном отношении Народность есть наиболее устойчивая инстанция Общей души, более или менее становящаяся, но трудно ломающаяся. Слом Народности обращает Общую душу в бредящее коллективное эго. В отличие от Народности, общедушевная Самость меняет лицо с каждым качанием Общей души, а то и с каждым новым поколением. В наше время общедушевная Самость являет себя в обличье современной Культуры, настаивая каждый раз на ее высшем духовном достоинстве.
* * *
Конкретная жизнь Общей души глубже, чем борьба классов или интересов. Она более всего определяется борьбой, столкновениями или взаимодействиями своехарактерных общедушевных типов, солидарных на основании внутреннего сродства.
Люди группируются по признаку «своих» тогда, когда признают друг друга «своими». Люди одного социального слоя или занимающие одно и то же положение в обществе тоже признают друг друга «своими», но это внешний признак и соответствующие ему поверхностные сочленения. Куда более глубинна близость по общедушевным типам. Есть типы психики, интерпсихические типы в составе хамовой общедушевности или, беря шире, этнические типы, типы нижней половины Общей души, ее Этноса. В яфетической общедушевности можно выделить определенные культурные (или интеллектуально-культурные) типы, некоторые из которых в каждый данный момент властвуют в культурном мире, забивая другие. В верхнем общедушевном поле светятся шемовы типы, например, типы женщин, создающие в народе разные виды семейственности. Эти женские типы уже не только сторгичны, но и народны. Они – типы Народности.
Типы в Народности не борются между собой; едва ли даже конкурируют. А, между тем, в каждый исторический момент те или иные из типов Народности выдвигаются на передний план народной жизни и передают всем свой особый настрой жизни, свое жизнечувствование и болезни. Народность окрашивается в тона какого-то типа, и это приводит всю Общую душу в состояние готовности жить так, а не иначе, менять или не менять общее течение жизни; склоняет Общую душу, скажем, к спокойствию или к волнению.
В отличие от типов Народности, типы общедушевной Самости вечно борются между собой за государственную власть или за морально-психическое верховенство в нации. В данном историческом времени начальствуют определенные типы людей, которые допускают участие иных типов общедушевной Самости, когда они им нужны или удобны. Революционная смена власти означает, прежде всего, замену типа властвующих. Если при этом прежний властвующий тип физически уничтожается, то упор делается на молодых людей, способных образовывать иную сплоченность филиопсихического типа, несовместимого и враждебного (хотя бы на первых порах) с уничтоженным типом. Конечно, разные типы общедушевной Самости находят себе, обживают (или даже себя сами образовывают) некоторую социальную, политическую, экономическую («классовую») лагуну, но это дело производное и вторичное. Борьба между типами общедушевной Самости (особенно в последние два века на Западе) выражается в виде борьбы экономических интересов; это говорит о степени маммонизации общества.
Как о каждом отдельном человеке можно судить по его Самости и по его серафической личности, так и народ можно судить и по типам его общедушевной Самости отдельно и по типам Народности отдельно. Каратаев Толстого (образ русской Народности) и Орлов Достоевского (один из самых распространенных типов русской национальной Самости) вовсе не исключают друг друга в Общей душе, хотя и дают разные картины национальной жизни. Особенности и пороки общедушевной Самости хорошо видны со стороны. Чтобы уловить особенности и достоинства Народности, надо познать народ изнутри.
Ближние по Народности – общедушевные соборонациональные ближние – могут и не быть ближними по общедушевной Самости – культурноэтническими общедушевными ближними. Это разные типы общедушевной близости.
Идеалом общедушевного ближнего своего в Общей душе служит образ себя в совершенстве осуществленного в Народности. Идеальные переживания этого соборонационального образа указывают на гипотетическое «отцовское» средоточие Общей души. В отличие от земляного материнского национального чувства, отцовское общедушевное чувство есть чувство переживания идеала общедушевной близости, воплощение которого каждая душа желала бы иметь во главе общедушевного единства жизни. Патерналистское отношение к Власти возникает в народе, как только Общая душа его склоняется работать в режиме Народности.
Общедушевное складывание душ – не складывание предметов в кучу или людей в толпу, не «один плюс все», а один, малая единица, плюс другая, большая единица. Складывание душ по Народности идет через некоторый идеальный образ, живущий в Общей душе. Более того, Общая душа самотворится по этому образу.
Этот глубинный и потаенный процесс, если не форсировать его, идет в историческом времени чрезвычайно медленно и неустойчиво. Единый соборонациональный идеал ближнего своего отчасти дается исходно, отчасти воспитывается в родственной общедушевной среде, но не задается с очевидностью и меняется от поколения к поколению. Укрепить этот хрупкий процесс, сделать его необратимым и спорым, быстро включающим в себя всех вновь прибывающих в Общую душу людей, можно разными путями. Надежнее всего – выразить этот идеальный сторгический образ в зримых человеческих чертах, воплотить духовное в плотское, человеческое и сделать его объектом общедушевной сторгической воли и разного рода творчества.
* * *
Типы общедушевной Самости и типы Народности участвуют в Истории по-разному. Первые задействованы в сюжете Истории и сами ткут ее событийную ткань. Вторые пребывают в этом сюжете, принимая его как нечто от них не зависящее, как историческую судьбу, в которую вписана их собственная внутренняя жизнь. Это, конечно, не значит, что Народность общедушевно пассивна или безответственна. У нее иной общедушевный план жизни. Она живет не столько в Истории, сколько на Пути Общей души. Ниже мы подробнее поговорим и на эту тему.
Общая душа расслоена на характерные типы общедушевной Самости и Народности, и типы эти ищут свое место в обществе, сменяют друг друга, сталкиваются между собой или вступают в союз. В Государственности правят одни характерные типы, в общественном мнении – другие, прессой завладевают третьи, хозяйственную жизнь захватывают четвертые. Это крайне важно: какое место отводится в данном обществе каким общедушевным типам.
Общедушевный критерий оценки общества – не его процветание или социальная прогрессивность, справедливость, гражданские свободы, разделение властей, права собственности и так далее, а качественная расстановка людей в жизнедеятельности народа. То общество лучше, которое способствует выдвижению лучших типов людей и в котором общедушевно подавляются худшие типы. Власть худших в нравственном отношении людей в обществе ставит лучших людей в катастрофическое положение, положение гибельности. Не позволить завладеть той или иной сферой жизни худшим из существующих типов – вот ведущий принцип внутриполитической жизни.
Принципу этому особенно важно следовать в кризисные моменты истории народа, когда решается его судьба. Можно предельно активизировать стимулы внешней жизни (скажем, экономические интересы, деловую инициативу и прочее) и общедушевно погубить свой народ, если при этом отдать его в руки наиболее маммонизированным, лживым и ловким людям. В первую голову, необходимо знать общедушевные последствия реформ. Худшая беда – власть худших, пусть в сопровождении изобилия и гарантий прав личности.
Любое общественное реформаторство, экономическое ли или социальное, законно и продуктивно только тогда, когда в результате его на передний план общественной и государственной жизни выдвигаются лучшие люди, во всяком случае лучше тех, кто были на переднем плане до реформ.
Реформы Александра Второго потому живительны, что активизировали лучших людей того времени и придали им важное значение в общенародной жизни.
По всей вероятности реформы Столыпина способствовали хозяйственному рассвету, но вряд ли призвали бы на службу лучших людей.
Реформы Ельцина и Гайдара потому совершенно губительны, что поставили худших из худших на положение господ общей жизни.
Социальная, экономическая, культурная политика должна быть общедушевно перспективна, то есть рассчитана сначала на лучшего, а потом на каждого, поддерживать и охранять высокое и высшее, а потом среднее – дать набухать семени и попутно тому, в чем это семя высеяно. Хороша не демократия или монархия, социализм или капитализм, хорошо то устройство, которое позволяет в данное время задавать тон в обществе и государстве духовно наиболее полноценным людям народа. Худшая из общественных систем потому худшая, что дает преимущество и свободу действий самым бездуховным и безнравственным людям, их побуждает и их выдвигает.
6
В начале Бог дал только что сотворенному человеку солнечную свободу – свободу жить в самом себе в партнерстве с Господом, свободу личной духовной жизни, без узды над нравственной волей, с душою, добровольно берущей на себя труды возделывания и хранения Сада Эдема. Обладая такой свободой, Адам самовольно вскрыл вход в иное, филио-интеллектуальное существование и присвоил его еще неспелые плоды. С тех пор сфера филической жизненности и разумности всегда грозит стать сферой раздора человека и Бога. Это она, бесхозная и самовластная творческая сила человека, подменила Бога и учредила идолов; ею же «сыны Божьи» создают демоническую силу, извращающую плоть Земли.
Ограничивая духовную свободу человека, Господь переставляет внутридушевную жизнь людей с лично душевной стороны на коллективную сторону. Но всечеловеческое коллективное эго, как только возникло, так включилось в Вавилонское дело. В ответ Господь образовал Общие души и задействовал в них общедуховную жизнь. Личная духовная свобода, которой могли пользоваться сыны Адама, в сынах Ноя замещена несвободой и подвластностью. С всегда невозмутимых и самовластных лиц людей, живущих исключительно общедуховной жизнью, с тех пор стерты следы волнений и сомнений личной духовной жизни.
Про яфетическую составляющую Общей души нельзя говорить то же, что про шемову составляющую, – что Яфет слагается из филических душ живущих людей. Яфет существует иначе – и в во-душевлении и сам по себе, как некая саможивущая область национальной культуры и национальной творческой воли. С разрушением Общей души от Яфета остается много такого, что может с успехом быть включено в жизнь других Общих душ.
В Общей душе, вообще говоря, призвана работать не творческая воля отдельного человека, а воля Яфета, то есть целостная творческая воля Общей души. Каждое движение отдельной филической души, чтобы иметь право на существование, должно было (вплоть до самого последнего времени) прежде стать фактом яфетической жизни.
* * *
Общедушевная жизнь стремится наложить узду на свою Самость, но это узда общедушевной Самости на Самость отдельного человека, а не заслон, поставленный из пласта высшей души. Несвободные моральные законы человеческого общества, в основном, отрицательные еще и потому, что задача их – наложить узду на самостность. Это не постулаты высшей души (где сострадание, милосердие, духовная чистота), а установки с того же уровня, на котором действуют филическая душа и Яфет. Мораль – продукт общедушевной Самости, сдерживающей Самость отдельного человека. Конечно, воздействие общедушевной Самости на личнодушевную Самость подкрепляет и Шем, но и Шем и свободная нравственная воля высшей души в целом слишком слабы, чтобы активно и результативно противодействовать личной Самости.
В общедушевности Яфета все может быть этически познано и заранее обусловлено, морально определено и установлено. В отличие от филической души отдельного человека, Яфет в этом смысле мистически законен. И сам узаконивает или не узаконивает то или иное авторское Я. Яфет для каждого отдельного авторского Я цензор и издатель одновременно.
В исходном состоянии филическая душа отдельного человека находится под опекой Яфета. Но и Яфет исходно не самовластен, существенно не равноправен с общедушевностями Шема и Хама и даже зависим от них. Это только в наше время, когда Яфет сам себе доставил средства (полиграфия, радио, телевидение, компьютер) самодержавного и комфортного правления в Общей душе, поэты и знатоки стали величать себя пророками, властителями дум, избранниками рода человеческого. В прошлом Яфет выходил на передний план лишь в празднествах и развлечениях. В Яфете народ отдыхал, мечтал, ублажал себя, получал разъяснения и оправдания своей жизни. Но в реальности жил – Хамом и Шемом.
Культура отчетливо зависима от темпераментности Хама и других его качеств. Яфет, бывает, обслуживает Шема, как, впрочем, и Хама. Шем и Яфет могут занимать какое угодно положение друг относительно друга – это зависит от частных обстоятельств исторической жизни и путевого развития Общей души, – но они до сих пор не образовали самостоятельной инстанции в Структуре Общей души.
В Общей душе, как во всяком структурном образовании человека, есть и мужское и женское начало. Это относится ко всем инстанциям Структуры Общей души. И все же мужское начало более сконцентрировано в Шеме и Хаме, а женское – в Яфете.
С Хамом Яфет составляет единое целое Общей души, общедушевную Самость. Яфет вводит Хама в человеческое достоинство, облагораживает и украшает Хама, как жена мужа. Хама можно сколь угодно цивилизовывать, делать его благообразным, но превратить его в Яфета или Шема нельзя. Без Яфета Хам звереет, деградирует, мерзеет. Яфет для Хама – его «духовная жизнь»; но не та, которой он, Хам, служит, а та, которая служит ему.
С Шемом Яфет проживает рядом в Общей душе, но – по отдельности. Яфет ищет идеи и образы для угождения человеку, Шем – смыслы и обязанности для угождения Богу. Яфет шалит и творит, Шем трудится. Шем, благословляя Бога, стремится сделать Ему благое. Яфет стремится получить от Него блага и ищет, как сделать это.
Шем понуждает Яфета служить себе – в культе, в Богослужении, в умозрении, правом, этикой, художеством. Культ и всякого рода религиозный антураж имеет полезное практическое значение, позволяя жить общедуховной жизнью тем, кто не готов на духовную жизнь, общедуховно сплачивает людей. Но сам по себе культ – яфетического (и магического, конечно) происхождения.
Яфет делает Шема доступнее, полнее выявляет его образ, озвучивает его глубинный голос, угадывает его затаенные смыслы. Как дочь от отца или как жена от мужа, так Яфет от Шема берет духовную жизнь и живет ею.
В круг «женских» обязанностей Яфета входит и первичное воспитание новых поколений, – но так, как это нужно Шему и Хаму. Они же используют Яфета для своего формирования и развития.
Функции Яфета в обществе многочисленны. Это он выдумывает знаки статуса, с помощью которых люди выделяют себя («делают себе Имя») и отличают положение каждого от другого – изобретает всяческие чины, звания, титулы, награды и прочее. Это он обещает человеку все, что он хочет, старается сделать так, чтобы человек не видел того, что не желает видеть, и видел то, что он видеть желает. Яфет ищет «Бога подходящего» – такого, который подходит людям. И, разумеется, всегда находит такого. Яфет помнит, что было, но не совсем так, как было, а как ныне зачем-то нужно, чтоб было. Можно долго и достоверно рассказывать о том, кем был в действительности тот или иной исторический деятель, для народной культуры и памяти это не имеет значения.
Яфет служит той визитной карточкой, которой одна Общая душа представляет себя другим Общим душам через, скажем, государственные символы. Уважать чужую Общую душу значит, прежде всего, уважать ее Яфета. Практически говоря, Яфет создает единственный канал, через который одна Общая душа может постигать другую Общую душу, влиять на нее и находиться под ее влиянием. Яфет национально колоритен, но и всеобщ. Именно Яфет возвещает идеи объединения – расового, экуменического, цивилизационного, всечеловеческого.
Разделяя человечество на Общие души, Господь Бог понизил в людях уровень «слышания» друг друга и произвел «увядание» языка взаимопонимания. Взаимопонимания людям – и в личной душевной и общедушевной сфере жизни – теперь надо добиваться многими и многими усилиями. На одно это дело, на удовлетворение одной этой неустранимой потребности взаимопонимания могут быть использованы не только все ресурсы, но и все резервы яфетической воли Общих душ.
Общедушевный человек в целом желает жить «как прежде», жить, как есть, всегда, стабильно, устойчиво и традиционно, и своих детей воспитывает таким образом. Народность Общей души не желает изменений, стремится сохранить статус-кво. Яфет же длительное время не может оставаться одним и тем же. Он нетерпелив, нетерпеливо стремится в будущее, обращен в грядущее, одухотворяется грядущим, создает грядущее, а то и предлагает грядущее для осуществления. Воскрыляющие мечты Яфета зовут его менять содержание и модифицировать формы своего проявления в Общей душе. Яфет провоцирует Общую душу на перемены. Не в очень возбужденном состоянии культурная толпа (новейшее порождение Яфета) постоянно требует косметического ремонта, в возбужденном – разового капитального ремонта всего общества. Достаточно человеку культурной толпы сказать «это старо», и любая истина, какая бы она ни была, отвергнута: она старая, ее надо поменять на новую, «современную».
Послепотопные люди стали строить Вавилонскую башню («возвеличивание»), дабы не исполнять, «не делать» план Бога, а вместо этого «делать себе Имя» – стремление чисто филическое и порочно филическое.
Шем – благословляющий Господа. Он – носитель Славы Господней. Люди же, движимые желанием «делать себе Имя», выражали тем самым новую и хорошо с тех пор известную яфетическую черту. Самопожертвование – светлая черта филической и яфетической одушевленности. Славолюбие – темная черта ее. В отличие от светлой, которая отдает жизнь, темная черта Яфета предполагает стремление брать и получать филическую (вернее, яфетическую) жизненность себе. Одним этим Яфет оказывается в связи с Хамом. Предоставленный сам себе Яфет выселяет Шема из его шатра и сам неумолимо вселяется в шатры Хама.
Каждая Общая душа содержит в себе душевности и Шема, и Хама, и Яфета. Однако общедушевная жизнь европейских народов в наибольшей степени обусловлена образом одушевленности Яфета. Пользуя приемы филической одушевленности, Яфет в конце концов пожелал стать вместо Шема, в подмену Шема, стать подобно Шему. И потому нам здесь особенно важно уловить различия между одухотворенностью Шема и одухотворенностью Яфета.
Подлинник книг Моисея и их европейские переводы во многом разные тексты. И дело не в плохих переводчиках или в их тенденциозности и даже не в том, что смыслонаполненность слов иврита адекватно непереводима на другом языке, а в том, что подлинник запечатан печатью одухотворенности Шема, европейские же переводы несут совсем иной стиль одухотворенности – Яфета, и Яфета античного, где важна сакральная драматургия и материал для возбуждения и переживания соответствующих религиозных чувств.
Яфет привержен правде мифа, и ему естественно смотреть «картины», в которых женщина мастерится из «ребра» Адама*), грехопадение видится половым актом, а Бог «смешивает» языки народов. Это не недостаток понимания и не профанация. Так видеть, видеть художественно, морально и рационально -свойство зрения Яфета. И не только, конечно, Яфета европейских народов, но и Яфета всякого другого народа. Однако именно Яфет столь прочно поставлен в центр европейских Общих душ и обуславливает их духовную жизнь.
Для Яфета Бог влюблен в человека, любит его больше Себя и, как всякий влюбленный, готов пожертвовать Собой ради любимого. И сам Яфет чувствует (любит) Бога, как своего Возлюбленного.
Яфет опирается на филическую душу, нацеленную на будущее и тамошнее, он устремлен к «горней» действительности, творит ее образы, грезит ею, ее переживает – и не как «иную» действительность, а как действительность другую, параллельную земной реальности. Сотворенная Богом земная действительность волнует Яфета не столько сама по себе, сколько в качестве образчика для собственного творчества в «небесной» реальности. Это имеет метафизические основания в Яфете.
Яфет куда менее Шема и Хама поставлен на Земле. И потому для него здешняя, земная, и тамошняя, посмертная действительности не пересекаются и, в сущности, разъединены. Сообщение между ними возможно только в одну сторону – через порог смерти тела. Но из «того» Мира в «этот» естественного хода нет. Европейский Яфет поэтому декларирует бессмертие либо в загробном царстве, либо через вынесенное в неопределенное будущее воскрешение мертвых, оживающих непременно в преображенную, избавленную от страданий и смерти, наилучшим образом устроенную земную жизнь. При таком подходе радости земной жизни удачно сочетаются с радостями жизни бессмертной.
Повсеместно бытующие в авраамических религиях верования в воскрешение мертвых, как и верование в бессмертие живущей в теле души, яфетического происхождения. Такого рода решениями коренных вопросов вероисповедания определяется особая роль Яфета и его особая стать в Общей душе. По своей недоукорененности в земной жизни Яфет не допускает мысли, что сложная Структура внутреннего мира человека может распадаться. Для него это – безобразие и хаос, нечто дисгармоничное, то есть рушащее самосознание Яфета в Мире.
Яфет ожидает перемен земной жизни на жизнь блаженную, но не ждет рабочей «перемены назначения» после этой жизни. В чувстве жизни самого по себе Яфета нет чувства рабочей назначенности.
С точки зрения Шема Господь Бог заключает Завет со своим Творением ради Своего работника человека. Для Яфета Бог сотворил Мир ради человека и для его блага. Если в восприятии Шема библейский Сад Эдема – есть рабочая лаборатория Бога и место трудной работы человека на Господа, то в восприятии Яфета Адам изначально был предназначен для наслаждения жизнью. Ангелы Господни имеют трудное дело – они служат – они служат спасению людей, – люди же созданы исключительно для блаженства. Дать блаженство – вот основной мотив благого Бога творить. Только из-за грехопадения Адама мы не наслаждаемся без меры и конца. Райское житие-бытие можно только подарить – дать не по заслугам людским, а в силу особой привязанности Бога к человеку.
Страшно и грустно бывает Яфету жить в этой жизни. Он тут как бы королевич, случайно и ненадолго попавший в плен к разбойникам. Яфету все кажется, что будучи у разбойников, ему надо только соблюдать царское достоинство и ждать освобождения и своего воцарения. Пусть это «соблюдать и ждать» – подвиг. Но – не дело и не работа.
Для Шема Бог нуждается в человеке и ждет от него дела. Для Яфета только человек нуждается в Боге, который требует от него подвига. Яфет воодушевляется желанием занять место любимца Бога, но не место наибольшей ответственности перед Ним. Сам по себе Яфет не знает (и знать не желает), что ему поручено совершать в Мире. Он ждет извещения Бога о том, когда и под каким условием Он должен даровать человеку то, что человек желает. В этой жизни Яфету вообще важен результат (например, гарантированный пропуск в Рай), а не рабочий процесс.
Все это чуждо образу одухотворенности Шема.
В любом эпизоде Библейской истории нет никакой идеализации и стилизации, никакого желания сокрыть порочное героя. Да и самих «героев» тут нет. (Если не считать книги греческой Библии: «Товита», «Маккавеев».) Библия не рассказывает историй в том смысле, как это испокон веков делает художественная, историческая или народная литература. В ней нет ни «правды мифа», ни «художественной правды», так как нет задач художества, которые необходимы легендам, сказаниям, мифам, былинам. Библейские эпизоды рассказаны так, как один человек рассказывает другому случай, на котором он лучше понял жизнь и вернее научился жить. Повествования вечной Книги призваны работать, и работать всегда, работать сейчас, работать для души каждого, в любую эпоху.
Произведение яфетического творчества в лучшем случае может претендовать на иллюстрацию того или иного закона жизни. На анализе же жизнедеятельности библейских лиц закон должен проявляться в его конкретности. Библия – высшая школа познания Воли Бога, приложенной к случившемуся. Библейская история – это поприще действия Бога и человека в той суровой земной действительности, в которой живут люди. Поэтому библейские лица – не предания старины, а действующие перед глазами люди, которые учат своими жизнями сейчас и которых можно обсуждать как деятелей современности. Такова исходная установка библейского повествования.
События Библии дают материал для суждения о жизни человеческой с точки зрения закона Бога и нарушения его. Закон этот действует только в реальностях человеческого бытия, которое в собственном своем виде не нуждается в яфетовой игре воображения и умозрения. С этим согласится всякий, кто свежим взглядом прочтет эти книги. Но, я думаю, не согласятся многие из людей европейской культуры. Для них лица книг Библии давно стали иждивенческими персонажами, годными для иллюстрации или вспомогательных поучений.
Дело не только в том, что европейские народы, взяв на вооружение Книгу, плохо восприняли заложенное в ней сознание рабочего пота событий частной жизни и Истории. Дело и не только в том, что книги Библии во многом лишились серьезности познавания жизни, а в том, что они за последние три века превращены в объект художественного воображения, спроецированы на яфетовый экран восприятия Истории, людей, самой жизни человеческой. В Новое Время европейский Яфет вселился в шатер Шема и шемову Книгу превратил в яфетову.
7
Нынешние этнологи и биополитики настойчиво настаивают на инстинктивной заданности явления власти. Исследователи наблюдали, как ведет себя доминирующая особь в группе животных, и как другие особи воспринимают ее, и решили, что иерархические законы, а значит и Власть, включены Природой в подсознательную животную базу как таковую. Это недоразумение. В животном мире укоренено стремление к превосходству, необходимость которого вполне выводима из эволюционных предпосылок, хотя и не покрывается ими. Это же стремление, разумеется, обусловливает и самочувствие человека в обществе, правит в мире людей – во всяком случае не менее, чем сексуальные и хозяйственные их стремления. Стремление к превосходству пронизывает всю частную и общественную жизнь, реализуясь не только явно, скажем, в борьбе за власть (для чего надо быть еще и властолюбивым человеком), но и скрытно, в таких сферах (скажем, в ученых спорах), где, казалось бы, им нет места.
Укорененное в глубинах животной природы стремление к превосходству есть главнейшее орудие иерархии и точка приложения Власти в обществе, но не ее основа. Власть в обществе существует не только и не столько в силу потребностей животной природы, сколько в силу одной из потребностей общедушевной стороны человеческой души.
Власть в коллективном эго – организующее начало сообщества, общая направляющая воля, осуществляющая целостность «мы», задающая разграничение компетенций, прав и обязанностей. Основная функция Власти – поставить индивидуальное эго (по своей воле) под коллективное эго. Через власть коллективное эго выражает себя в каждом человеке в качестве его внутренней основы жизни.
Власть интегрирует существование коллективного эго, потому так часто возводится в Идола.
Власть остается интегрирующим моментом и в Общей душе. Но Общая душа преобразует его. Природа властвования в Общей душе изменяется.
Общая душа строится на взаимной внутренней сопринадлежности людей друг другу, на чувстве ближнего, на сродстве душ. Единство общедушевности, сплавленное шемовой и яфетической солидарностью, для своего существования не особо нуждается в наложении общей принудительной воли, хотя и пользует ее в инструментальных целях. Власть в Общей душе есть одно из основополагающих общедушевных переживаний. Если власть в коллективном эго необходимо сочетается с идолопоклонничеством, то Власть в зрелой Общей душе схожа с переживанием Сокрытого Лица.
Чувство подвластности это не переживание чуждой покоряющей силы в себе, это переживание высшего, могучего Лица, обращенного к моему лицу, Лица, которому я причастен, которому подобен, который есть во мне.
Чисто человеческое душевное основание Власти выражается в сознании подвластности себя. Сознание это не вторично, не индуцируется, скажем, представлениями о высшем Начале Мира, а восторженно или тихо существует в душе само по себе и само ищет, к кому бы и как приложить себя.
Чувство подобия коренного Я, закрепленное в базовом чувстве-сознании жизни коренного Я, переходит в чувство-сознание подвластности, переходит, что важно, в общедушевности Яфета.
* * *
В некотором смысле явление Власти задано человеку, но не на природном уровне, где осуществляется принудительный и рутинный обмен жизненностью, и не на интерпсихическом уровне, где обмен жизненностью осуществляется в свободе брать себе импульсы жизни другого, а на филическом уровне, где действенна более высокая свобода обмена жизненностью.
По филической природе своей человек отдает жизнь из себя. Исполняя приказание, даже приказание идти на смерть, посланный на смерть идет сам, по своей воле, оставаясь в самоощущении свободным. То сознание подвластности, о котором мы говорим, требует добровольно отдать свою жизнь. Что невозможно в психофизиологической жизни. Власть обусловлена филической душевной потребностью и сама есть одно из явлений общедушевности Яфета. На такого рода общедушевном сознании и общедушевной потребности души возникает, например, и чувство чести.
Конечно, чтобы один человек мог властным взором послать другого на смерть, нужно, чтобы властвующий действовал от имени некоторой высшей метапсихической инстанции. Людям всегда кажется, что требования Власти исходят от кого-то, кто стоит над ними. Непосредственное душевное (общедушевное) переживание Власти побуждает видеть источник сознания Власти и сознания подвластности в отношениях Я-подобия, коренного Я человека, и Я Подлинника, Я Господа.
Власть (если это не власть в шайке или в стае) это не столько принудитель, сколько начальник, чиновник – некое отвлеченное свыше действующее Лицо. Государственная власть – это Должность, Чин, Звание, Сан, общественный Статус. Кого угодно посадите в начальственное кресло, и он, за редчайшими исключениями, начнет меняться на глазах. В нем появится повелительная повадка, он изнутри наполняется скрытыми водами общественной значительности. Изменился статус, и он ощущает себя выше других и, самое интересное, сам чувствует себя выше себя. Напускное? Нет. Он действительно в чем-то становится выше. Его авторское Я исполняется сознанием Власти, ее силой и достоинством, дающими ему внутреннее право указывать и повелевать. Лишите его кресла – и он в самом себе лишится этой дополнительной начальствующей силы авторского Я. Опять посадите – вновь обретет ее. Преображения эти в основе своей непроизвольны и глубинны.
С обретением Власти в человека поступает заряд активности жизни, он реально заряжается и чувствует приток жизненности в себе, – не поддельно, а подлинно оживает душой, обеспечивается дополнительной силой и полнотой жизни.
Вы скажете, он играет социальную роль и оживает от исполнения этой роли? Конечно! Только он входит в эту роль так, так погружается в нее, что оживает не условно и не поддельно. Он занял то место в государственной жизни, откуда можно выбирать на себя заряды дополнительной полноты жизни. Какой же жизни? Той самой, свежими ресурсами которой пользуется талантливо перевоплотившийся в героя актер на сцене.
Актер обладает способностью на время вытягивать на себя воды филической жизни и жить ими на сцене, как в подлинной жизни. Начальник, в отличие от него, живет не «как в подлинной», а в подлинной жизни, но «как на сцене». И получает ресурсы филической жизни не для сцены, а для исполнения важной государственной функции в реальностях особой сферы яфетической жизни – жизни государственной. Государственная жизнь потому так и театральна, что она и сценичность – в одном и том же русле жизни.
«Как удивительно, – говорит Монтескье, – что короли так легко верят тому, что в них всё, и что народ так твердо верит в то, что он ничто». Действительно, загадка. Но загадка до тех пор, пока мы не усвоили, что народ и его король состоят в единой яфетической общедушевности и живут вместе по ее канонам. Король занимает место филического Центра Общей души и по положению (по чину правителя) является тем лицом, тем авторским МЫ Общей души, которое обладает назначающей (королевской) волей и фокусирует на себя векторы филических воль всех живущих в данной общедушевности людей. По природе общедушевной жизни все они добровольно направляют к нему – и в него, в его королевское авторское Я – заряды филио-государственной жизни. Правитель принимает их в себя, ими заряжается и от обладания всей полнотой филио-государственной жизни «легко верит», что он – «всё».
Король – яфетический Центр государственной жизни и обладатель назначающей воли общедушевной Самости. Но не только. Он еще и основное и самое ценное произведение творческой воли всей государственно-филической общедушевности. В яфетическом мире государственности король то же самое, что величайшее, заглавное произведение искусства в филическом мире культуры.
Образом вождя – творческой энергией филио-государственной жизни всего народа, – подданные самопленяются так же, как они пленяются любым другим созданием филического творчества. Разница лишь в том, что государственная жизнь есть самый доступный разряд филической жизни, для включения в которую не требуются ни талант, ни специальные усилия творческой (со-творческой) воли, ни язык культуры, ни обладание понятийным аппаратом. Навыки, позволяющие душе легко включаться в государственную жизнь, подсознательно обретаются филиомагическим сознанием с детства. Жить государственной жизнью охотно помогает магия Власти, поражающая воображение театральной силой почестей, роскоши, могущества, всеми магическими своими символами и прочими средствами выразительности Власти, усиливающими яфетическую волю людей до степени, при которой они сами себя могут просто и легко ставить на подзаряд от Власти, на подвластность.
* * *
Авторское Я – волевая производная коренного Я в личнодушевной жизни. Власть – волевая производная коренного Я в общедушевной жизни. Человек у Власти постепенно становится совершенно другим, куда более значительным, чем есть, человеком, именно потому, что Власть есть производная коренного Я, Я-подобия Господа.
Власть – то же самое, что авторское Я в личнодуховной стороне Структуры. Власть Автор Общей души.
Авторское Я – явление жизни филической души. Власть – общедушевное яфетическое явление. Власть в человечестве создана не Природой, а есть продукт творческой воли – той самой воли, которой человек создает искусство и науку, культуру и цивилизацию, развивает свой интеллект и свои этические представления.
Авторское Я представляет коренное Я в личнодушевной Стороне Структуры. Власть представляет коренное Я (точнее – того начала, откуда коренное Я) в общедушевной стороне Структуры.
Ослабление Власти ведет к ослаблению МЫ. И ослабление МЫ к ослаблению Власти. Вызвано это тем, что Власть, в отличие от авторского Я, работая на Общую душу, не работает на общедуховность. У нее нет общедуховных (шемовых) задач.
МЫ и Власть существуют в сознании человека раздельно. Происходит это потому, что МЫ – внутреннее управляющее начало Общей души, не несущее ясных организационных форм, а Власть – внешнее авторское начало Общей души, зримо функционирующее.
Войны в человечестве никогда не прекращаются не по корысти, не потому, что нужны территории, рабы, богатства, рынки сбыта – это попутные рациональные побудительные мотивы войн. Войны проистекают потому, что война – основное и наиболее острое и яркое жизнедействие Власти. Войны необходимы Власти как таковой, необходимы, что бы Власть чувствовала жизнь в себе и активизировала её в себе.
Совокупность Власти и МЫ осуществляется в национальной государственности.
С общедушевной точки зрения демократия есть попытка поставить Власть (Автора Общей души) под начало МЫ, управителя Общей души. В действительности Власть в демократии не исполнитель воли МЫ (народа), а исполнитель интересов анонимного круга лиц, владеющих средствами массового внушения. Чем средства эти эффективнее, тем полнее власть тех, кто ими владеет.
У Власти есть «место». Это «власть-место» занимает человек Власти. Хорош или плох властитель в других отношениях, но он на месте, если при необходимости (в моменты неустойчивого или опасного состояния народа) способен подать мобилизационный сигнал, который не может быть не принят Общей душою.
8
Понятие «темного Оно» возникло у меня из чтения сцены расстрела Пьера Безухова в четвертом томе «Войны и мира». Пьер не мог понять: «Кто же это, наконец, казнил, убивал, лишал жизни его – Пьера со всеми его воспоминаниями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто. Это был порядок, склад обстоятельств. Порядок какой-то убивал его – Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его». Происходило «нечто такое, чего не должно быть, не может быть, – пишет Толстой в другом месте, – и что это дело не случайное явление, а в глубокой связи со всеми другими заблуждениями и бедствиями человечества, и что оно-то лежит в основе всех заблуждений и бедствий человечества».
В плену Пьер впервые познал невидимую и темную силу рокового и страшного «ОНО» и содрогнулся.
«Вот оно!.. Опять оно! – сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В неизменном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную и безучастную силу, которая заставляет людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами и увещеваниями к людям, которые служили орудиями ее, было бесполезно. Это знал теперь Пьер».
В общественной жизни люди служат слепыми орудиями неумолимого темного ОНО, хотя редко сознают это так ясно, как герой Толстого, который, попав в плен, «чувствовал себя ничтожною щепкой, попавшей в колесо неизвестной ему, но правильно действующей машины». И оттого в душе Пьера «все заваливалось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожалась вера в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога».
Темное ОНО есть то иррациональное интерпсихическое начало в человеке, на котором держится и государство, и власть. По причине темного ОНО «все граждане в государстве являются угнетателями самих себя» и «народ, который может быть свободным, отдает сам свою свободу, сам надевает себе на шею ярмо, сам не только соглашается со своим угнетением, но ищет его»(ПСС 45.256). Темное ОНО делает то, что люди «и не спрашивают, кто те лица, которые запрещают им, и кто будет их наказывать за неисполнение, и покорно исполняют всё, что от них требуется. Людям кажется, что требуют от них всего этого не люди, а какое-то особое существо, которое они называют начальством, правительством, государством»(ПСС 45.261).
Общедушевная сила, которую зрит герой Толстого, не столько подавляет людей извне, сколько вырастает в них из глубины и решает совесть в противоречие их же собственной личнодуховной природе. Пьеру стало страшно не столько от вида этой силы в душах других и не от гипнотического действия ее извне на него, сколько оттого, что темное ОНО поднималось в нем изнутри, захлестывало его, лишало личностности, духовной свободы и духовной ответственности за себя.
С точки зрения Льва Толстого, то есть с личнодуховной точки зрения, темное ОНО есть то непосредственное выражение несвободного сознания, благодаря которому человек исходно находится в состоянии душевной зависимости, подзаконности, подчиненности, готовности к подвластности как таковой. Темное ОНО (и те, кто им пользуется в своих целях) заставляет силящегося быть свободным человека изменять самому себе, своей воле, своей совести – душевно угнетать самого себя и жить в состоянии душевного рабства.
С общедушевной точки зрения темное ОНО представляется иным. В качестве несвободного сознания темное ОНО правит над установившимся ходом жизни, обеспечивает инерцию, неизменность и ежеминутную безопасность общественной жизни. Пусть оно угнетает того человека, в котором есть потребность свободы (исключительно людей зрелого сознания жизни), но при этом обеспечивает спокойствие остальных и устойчивость всего общества. Темное ОНО играет в общедушевной жизни важную роль и роль эту надо понять.
Темное ОНО есть иррациональная основа самого по себе принудительного порядка в обществе. Темное ОНО подобно инстинкту самосохранения у животного, но только в принудительном порядке действует в интерпсихической спаянности людей.
Конечно, темное ОНО несет в себе несвободу и именно своей несвободой портит чувство-сознание жизни свободной по своему статусу высшей души отдельного человека. Темному ОНО подвержены не только одностадийные, но и двустадийные люди. Даже трехстадийные люди испытывают на себе его влияние. Но с позиции Общей души темное ОНО устанавливает внутренне присущий Порядок, неукоснительно и поминутно соблюдающийся всеми членами общества. Он более чем оправдан в экстремальных условиях жизни, в войске, скажем.
В некоторые моменты общество по внутреннему побуждению возносит темное ОНО в высшее достоинство и переживает его в качестве высшей моральной нормы. Есть нации, где в темное ОНО включено само чувство общедушевного ближнего, так что, уклоняясь от власти темного ОНО, человек тем самым уклоняется от исполнения своих общедушевных обязанностей, то есть выключает себя из состава народа.
В любого рода интерпсихической связи человек, вообще говоря, желает захватить, отобрать, взять себе и для себя запасы психической жизни другого, включить в свой образ и волю его образ и волю или в интерпсихической ненависти уничтожить их для себя. Обратная сторона этого чувства – чувство психической агрессии на себя, интерпсихический страх. Личный интерпсихический страх, как и общеприродный страх перед опасностью, вообще говоря, подавляем в себе волей. Но производимый темным ОНО общедушевный интерпсихический страх преодолеть так же трудно, как страх смерти. Им-то более всего и цементируется общедушевность Хама.
Темное ОНО, с одной стороны, подавляет индивидуальную волю, и, значит, ослабляет ее. С другой стороны, включенная в темное ОНО индивидуальная воля знает силу всех как свою силу и, значит, усиливается; во всяком случае, не боится остаться в бессилии и бессознательности. Происходит и то и другое тогда, когда воля отдельного человека сама перемещает себя в общедушевность, а последняя берет себе и в себя индивидуальную волю. То есть тогда, когда человек психически начинет работать в общедушевной стороне Структуры. Тогда он обретает сознание общего Строя и чувство преданности стоящего в этом Строю.
* * *
Начало эго разнесено по сторонам Структуры. Индивидуальное эго не есть производная от коллективного эго. Последнее – в общедушевной стороне Структуры, первое – в личнодушевной стороне и стороне Встречи.
В индивидуальном человеческом эго есть два начала, благодаря которым образуется коллективное эго. Эти начала создают два основания коллективного эго, две его стороны, два базовых состояния жизни коллективного эго, образованного из совокупности индивидуальных эго. Хам является фундаментом Общей души именно потому, что в коллективном эго есть эти две стороны и начала.
Первое – начало общей стройности, стыкующееся с шемовым чувством ближнего и входящего вместе с ним в переживание Народности. Второе – темное ОНО, обращенное к общедушевной Самости.
Темное ОНО – то, что образует коллективное эго из множества индивидуальных эго. Темное ОНО -сила, связывающая индивидуальное эго в коллективное эго. Без темного ОНО коллективное эго не могло существовать.
Забегая вперед, скажем, что общая стройность в составе Народности находится под духовной Властью, а темное ОНО в составе общедушевной Самости находится под светской Властью. Первое – качественно, личностно, и в значительной мере определяет своеобразие психологических черт этноса. Второе – бескачественно, безличностно, хотя, наверняка, имеет поведенческие особенности в разных коллективных эго.
Темное ОНО – безличностное основание коллективного эго.
Темное ОНО не злокозненное начало, а вполне законное явление, без которого невозможно как существование общества, так и Общей души.
* * *
Хам – носитель этнопсихологического характера. В Хаме самом по себе есть предрасположенность к темному ОНО. Но темное ОНО не от Хама. Темное ОНО – основание коллективного эго, и не коллективное эго образует его, не есть причина возникновения темного ОНО.
Темное ОНО генерируется Властью и только Властью. Свою авторскую волю (как волевая производная коренного Я) Власть являет не через бюрократические распоряжения, а темным ОНО.
Власть – не институт по благоустройству общества, не наемный управитель, не обуздатель злого, а инстанция Общей души, включающая в себя как собственно власть, Автора исторического жизнедействия Общей души, так и темное ОНО.
Темное ОНО и Власть – единая инстанция Структуры Общей души. Власти без темного ОНО, как и темного ОНО без Власти, не существует.
Власть только тогда Власть, то есть Автор Общей души, когда подает в души людей мобилизационный сигнал, действенный тогда, когда он распространяется темным ОНО.
Без мобилизационного сигнала Власти и, следовательно, без темного ОНО, народ может существовать только в редкие моменты исторического затишья, в историческом благополучии.
* * *
Считается, что русский народ более других народов почитает силу и крепость власти в обществе, ценит тот "порядок", который мял душу Пьера. Наверняка, в мире было и есть немало народов, которые не менее русского почитают и ценят это. Но в русской интерпсихической жизни, действительно есть черта, которая придает ее отношению к власти особенное звучание. Русский человек любит и уважает мощь, огромность самой по себе силы, все то, в чем можно почувствовать богатырство, (или псевдобогатырство): и физическую мощь, могучую мышцу, и подвиг воли (особенно, аскетизма и терпения страданий), и психическую силу лидера, подавляющего волю более слабых, и могущество государственное, всякую громадность, огромность и размах, море разливанное, широту и громогласие, само богатырское "могу!" во всех сферах и формах. Зычный начальник вызывает не филическое, а интерпсихическое почтение – не потому, что он есть власть, а потому, что он "силища огромная": захочет и кого угодно свернет в бараний рог.
Черту эту легко опоэтизировать и превознести, но надо сознавать, что это чисто эротическая (и к тому же отроческая) черта. Конечно, где эротическая сила, там и насилие, где психически уважают сильного и властного человека, там уважают и сильную власть. Русский человек, наверное, идеальный подчиненный, подчиняющийся, но редко когда подвластный, любящий власть филически, как таковую, и с пылом ей повинующийся. "Русский народ всегда иначе относился к власти, чем европейские народы,- писал Толстой. – Русский народ никогда не боролся с властью и, главное, никогда не участвовал в ней, не развращался участием в ней... Этим же отношением к власти объясняется та покорность русских людей самым жестоким, безумным, часто даже не русским самодержцам".
Эта легкость признания "не русских самодержцев" определенно настораживает наблюдателя. Тут явно сказывается особость русской филической, и в том числе филио-государственной общедушевности. В русской филио-государственной жизни мало воображения, слабо художество государственной жизни, русская государственная жизнь в значительной мере подражательна, взята напрокат от татар, немцев, теперь вот от американцев, а завтра, быть может, от персов. Толстой точно подметил это нежелание Руси активно жить своей творческой государственной жизнью. Отсюда нетворческий, голо бюрократический, малоподвижный и крайне централизованный стиль всей российской иерархической государственности.
В чем тут дело? Я думаю, причина этого нежелания кроется в особых склонностях русской Общей души, влияющих на ее ход в Истории. Кто только не говорил о прямо-таки фатальных бедах чуть ли не всех российских художников и мыслителей, кто только не пытался осмыслить их общую драму, их судьбу на Руси. Надо, наконец, признать: Русь вообще не склонна жить филической жизнью, не придает особого значения своему существованию в филической общедушевности. У русской Общей души слаба потребность выявлять и выставлять себя филически. Русь не желает вовсю работать самой по себе филической жизненностью, которая в ней как бы приглушена и утишена. Неизощренность, неутонченность, бесхитростность, прямота, культурная грубость и неумность (а то и дурость) русской обиходной жизни очевидна. Это не говорит о потенциальных или актуальных творческих возможностях русской филической общедушевности или о неприятии творцов на Руси. Запрета на личную творческую деятельность от Общей души на Руси, конечно, нет. Филические Центры почитаются как своего рода "силища". Но с этого рода общедушевной жизни у русской Общей души снято ударение. Филическая общедушевность Руси, как бы замечательна она ни была, безударна. Русская Общая душа равнодушна к ней и в ней пассивна. Разумеется, это не мешает культурному слою русского общества цвести и развиваться, как ему угодно. Тут ему дана свобода, но свобода эта – от своего рода равнодушия.
Русский народ – хотя бы в том его состоянии, в котором его застали Толстой и Достоевский, – особенно привлекателен своей лучащейся сторгичностью, которую он сам вроде бы не примечает, не выставляет и как бы не ценит в себе. Но она проявляется (или проявлялась?) во всем.
Русская простонародная сторгичность чрезвычайно трогательна, органична и полновесна. И составляет главное достояние Руси. Русскому человеку без сторгической жизни, не испытывая чувство ближнего, жить трудно. Он пьет, бывает, чтобы раскрепоститься и ощутить сторгическую близость. Непьющий человек, у которого даже нет потребности через алкогольное расслабление самости ощутить чувство сторгического братания, подозрителен ему. Есть на Руси всякого рода пьянство, но есть и это обаятельное пьянство, которого ни в каком другом народе нет.
Отношение к преступникам, в сострадании к ним как к падшим, отверженным и гонимым ближним, как и отношение к нищим, убогим, несчастным, несомненно продиктовано сторгической совестью русского народа. То же самое можно сказать и о так называемых социальных "уравнительных тенденциях" общинного типа в русском народе, которые порождены сознанием справедливости и, следовательно, сторгически неустранимы. С этим нельзя не считаться. Прав был когда-то и Столыпин, разрушавший общины ради экономического и государственного процветания страны, но прав был и Лев Толстой, гневавшийся на него за это по соображениям общедушевного здоровья нации.
* * *
Авторское Я в составе Самости обладает назначающей волей в отношении исполняющей воли низшей души и эго. Власть в составе общедушевной Самости обладает назначающей волей в отношении исполняющей воли Хама и коллективного эго.
Воздействие Власти на коллективное эго соотносится с индивидуальным характером коллективного эго. Но опирается на безличностное основание коллективного эго, на темное ОНО в нем.
Хам обладает исполняющей волей общедушевной Самости, но задать сам себе направление действия не может. И потому назначающей волей общедушевной Самости владеет государственная Власть. Анархизм возможен только как явление личнодушевной жизни, противопоставляющей себя жизни общедушевной и ее корневым установкам.
Действие исполняющей воли Хама в одной Общей душе может быть иначе выражено или иначе олицетворено во властителе, чем в другой Общей душе. Исполняющая воля немецкой Общей души столь собранна, что может функционировать автономно (не в экстремальной исторической ситуации, конечно), тогда как исполняющая воля русской Общей души хотя и мощна, но сумбурна и не так самомобилизируема, как немецкая. Государственная Власть в России – мобилизующее начало, необходимое для концентрации усилий русской Общей души, которая для себя хорошо знает необходимость Власти и не может существовать с ослабленной Властью.
Как и всякая другая область филического поля жизни, государственная жизнь существует благодаря самопожертвованию людей, отдающих в нее частицы жизни от себя. Воплощающейся в Государство общедушевной Самости требуется для собственного проживания пища – жертвы и жертвы. Без них у Государства нет жизненных ресурсов. Чем больше в обществе самопожертвования, тем полнокровнее филио-государственная жизнь Общей души. И – наоборот. Люди, черта которых «жертва всем», обычно складываются в сильное и жесткое Государство.
Насилие форсирует воздействие темного ОНО и резко усиливает интерпсихический страх в человеке. Каким образом? Конкретной угрозой карающих органов? Нет.
Орудия выразительности Власти прежде всего направлены на усиление именно яфетической воли государственной жизни людей, а потом уже на ту исполняющую волю, которая действует в интерпсихическом Строе государственности.
Дело не в самом по себе факте грозящей физической расправы, а в психическом устрашении – в действии отвлеченного и анонимного образа насилия, внедренного в душу филически, воображением. Это не угроза, не опасность, не стихия, не психическое или волевое принуждение, не что-то интерпсихически или природно давящее, а нечто в конкретности неосязаемое, словно наносное, «придуманное», и между тем обладающее силой «жать» на душу, жать как бы сверху – оттуда, откуда возможно подавление фили-ческой свободы и содержания.
Подавляющее человека физиологическое чувство страха преодолевается волею. Образ же насилия, внедряясь в душу, воздействует на волю каждого и всех вместе. Перед страхом такого рода человек в психическом отношении беззащитен. Его способны побороть лишь свободные духовные движения души, действие свободного сознания, энергия которого прибывает при личнодуховном росте.
Темное ОНО есть одно из основных проявлений общедушевной Самости, усмиряющей некоторые вольности Самости личнодушевной жизни. В серафической жизни, в жизни высшей души, практически говоря, нет сил, способных противостоять темному ОНО общедушевной жизни. Но когда человек начинает страшиться проявления темного ОНО в себе и не может жить под воздействием смыкающего интерпсихический Строй устрашающего воображения и желает «свободы», то он стремится в иное общедушевное состояние жизни, в котором темное ОНО, а значит, и Власть обессилены. Это-то стремление людей избежать переживания темного ОНО и создает общедушевные предпосылки демократического общества. Стрела Демократии прямо не направлена на общий интерпсихический Строй коллективного эго, так как он составляет опору общедушевности Хама, без которой Общая душа существовать не может. Уничтожению подлежит филически нагнетаемый образ устрашения, подавляющий души членов общества.
Демократия не основывается на личной внутренней свободе человека. Демократия желает заменить сознание подвластности правовым сознанием, законопослушностью, основанной на общедушевных этических переживаниях. Сознание свободной подвластности, умозрительно говоря, удовлетворяется тут не по отношению к Власти, а по отношению к Закону. Цель же в действительности иная: заменить безучастный «темный порядок» на «иной порядок», в котором в составе инстанции Власти вместо темного ОНО, но так же безучастно, действует Закон, где личное чувство справедливости и общедушевные моральные переживания удовлетворяются внеличностными и внеобщедушевными юридическими ухищрениями. Гарантом справедливости становится интеллектуально-филическое творчество правоведов. Это, разумеется, откровенная игра, но в ней гасится угнетающее душу сознание возможности произвола.
9
Религиозные переживания присущи и человеческой общности и человеку как таковому. Личнодуховное религиозное чувство, которым человеческое «Я» обращено к «Я» Господа, и общедуховное религиозное чувство – одно и то же чувство Веры. Вера – не как исповедание, а как глубинное переживание – есть чувство жизни коренного Я. Вера Общей души – все то же чувство коренного Я (чувство подобия Я Господа), только в общедуховной ипостаси.
Само по себе чувство Веры не чувство определенной стороны духовной жизни, а чувство-сознание коренного Я, то есть чувство-сознание человека как такового. Говоря о Вере, я буду иметь в виду не веру в постулаты Вероисповедания, а саму способность верить, основанную на жизнесознании коренного Я.
Присущее человеку как таковому чувство Веры может быть распространено на что угодно. Но это – распространения Веры, а не самая Вера. Общедуховная сторона распространяет Веру столь широко, сколь это ей оказалось нужным в силу другого властного основания Веры.
Общедуховная жизнь основана на первейшей общедуховной потребности Веры сообща, на необходимости переживать чувство Веры всем вместе. Людям необходимо иметь Веру не каждому самому по себе, а верить вместе и, значит, верить в то, во что можно верить сообща, что освещено традицией и авторитетом. МЫ без функционирования общей Веры не удовлетворено. Это установлено так жестко, что в поисках своей истины серафической жизни приходится дистанцироваться от Вероисповедания или исхитряться не противоречить ему.
На этой же безусловной потребности верить сообща основана и конфессиональная Власть – власть Веры сообща.
* * *
Как надо различать властвование в коллективном эго и Власть Общей души, так надо различить верования в коллективном эго и Веру Общей души.
В коллективном эго люди тоже верят, но Вера как глубинное переживание и основное чувство жизни – чувство жизни коренного Я – может быть только общедуховным, духовным переживанием в единстве со всеми, вместе со всеми в одной и той же Общей душе. Вера – идеальное переживание, доступное любому человеку.
Язычество не прививает народу мировоззрение и построено не на Вере, а на верованиях. Все магические умения шаманов, колдунов, жрецов и прочее – филического (вернее, филиоприродного) свойства и пользуют соответствующие силы и возможности.
Человек желает брать себе то, что ему не дано и не принадлежит. Верования основаны на стремлениях овладеть тем в Природе и Космосе, до чего дотягиваются щупальца магического или аналитического сознания, что нужно расположить к себе и использовать для своих нужд. Магические и интеллектуальные возможности позволяют человеку надеяться, что ему удастся воздействовать в нужном ему направлении на некоторую к нему равнодушную Силу, неизмеримо превышающую его силу.
Верование предполагает причастность коллективного эго к высшим Силам, утверждает сообщен-ность его с ними и является орудием овладевания высшими Силами через вхождение в контакт (а, лучше, в союз) с ними.
Верования придают человеку самоощущение, которое сродни мощи разума, – самоощущение магического обладания сверхсилой. В этом смысле верования – ментальная и жизненная мощь коллективного эго. Недаром одно из основных свойств верований – их стойкость. Без верований коллективное эго обессиливается. Потому верования так жестки, тверды и агрессивны в своей неподвижности и самоутверждении, так громко и отчетливо заявляют о себе, не допуская намека на самостояние отдельной личности. Верованиями коллективное эго осуществляет свою сплоченность, само центрирует и цементирует себя, пресекая попытки самостоятельного и независимого духовного восхождения человека.
Верования утоляют жажду «Имени», которое коллективное эго само по себе не имеет. Верования вызывают в коллективном эго сознание себя, своей выделенности и единичности, сознание канонов и критериев свойственного себе и себе чуждого стиля (образа) жизни. Верования – ложное возвещение коллективного эго о себе как о личности. Вавилонские строители веровали в нечто такое, что, с одной стороны, придавало им силу делать то огромное, что они делали, и, с другой, – давало им Имя.
У верований, как и у властвования, двойственная природа. Психически и природно верования подлинны постольку, поскольку действенны проникающие возможности магического сознания и обладания. Однако к магическому ведению и овладеванию мощью в верованиях неизменно добавляется филический блеф, по большей части художественный, но и интеллектуальный. Именно блеф такого рода создает Имя, которое вполне индифферентно к добру и злу, истине и заблуждению, правде и обману, к Свету и Тьме. Имя, необходимое для самовозвещения коллективного эго, воздвигнуто через верования на непробужденном, теневом духовном самосознании и филио-магически господствует над душами людей.
Верования манифестируются коллективным эго и самовнушаются. Вера же предлагается Общей душе при ее возникновении и необходима ей для ее развития и самосохранения. При зарождении Собора Общая душа стремится жить исключительно как община Веры. По Вере Общая душа знает, как ей надо жить. Вера разделяет между Светом и Тьмой, добром и злом (а не силой и бессилием, как верование), святым и профанным, праведным и паскудным. Вера основывает себя не столько на стойкости воли, сколько на душевной верности.
У коллективного эго нет «сердца» в библейском смысле этого слова. Вера-верность прежде всего сердечна. Вера есть незыблемая убежденность общедушевного сердца, исповедание истинной жизни по Воле Всевышнего и для Него. Если верование центрирует общину саму по себе, то Вера концентрирует Общую душу на своем Боге. Верят в Общей душе, как любят: всем сердцем, всем существом, всею жизнью. Вера и любовь к Богу в Общей душе совмещены в одно чувство-сознание.
Вера – это самоутверждение общедушевной жизни в духовном качестве – самоутверждение общедуховности. Верой Общая душа устанавливает, утверждает и провозглашает саму себя. В конфессиональные игры играет духовная Власть, но не Вера.
Вера – центральное общедуховное переживание. Без Веры нет общедуховности. Вера существует не потому, что так нужно духовной Власти, а потому, что Общей душе нужна духовная жизнь.
Как таковая Вера служит общедуховному росту, не дающему загнивать Общей душе. И потому подлинная Вера готова к воспарению духа в человеке, знакома с муками сомнений, допускает духовное страдание, вопрошание без ответов, стремление без успокоения. Базируясь на подвижности, мудрости, подлинности, сокровенности общего духовного опыта, Вера все более и более должна динамически осуществлять Общую душу как душу. Если в практике жизни так не происходит, то потому, что в реальном общедушевном бытии Вера замешана с суевериями, которые приняли на себя и исполняют в Общей душе чуждые ей функции верований.
В Вероисповедании каждой Общей души всегда есть и магический элемент верований и мистический элемент Веры. Сама Вера – мистична, а не магична. В качестве чувства МЫ она есть чувство жизни коренного Я и потому знает присутствие в жизни народа высшего духовного Начала как субъекта народной духовной жизни. Вера – величайшее и глубочайшее переживание, объединившее два субъекта духовной жизни в общую духовную жизнь. Как один человек сторгической любовью добывает себе душу другого, так некоторые Общие души Верою добывают свой Божественный Лик и в переживании Святыни отдают себя ему.
* * *
Общедуховная жизнь – жизнь религиозная, вероисповедальческая. В основании любой религии (даже древних языческих) не ее постулаты, а неустранимые потребности коренного Я человека в Вере и молитве. Верить и верить вместе со всеми – необходимость, исходящая из коренного Я человека, которое у всех людей одно.
Общедуховная жизнь определяется не сакральными текстами, не богословскими идеями и разработками, не постановлениями инстанций духовной власти. Не это лежит в основании общедуховной жизни, а исключительно потребность верить и молиться. Эти потребности в Общих душах различаются, имеют свой стиль и традиции переживания и молитвенной практики. Специфика общедуховной жизни в первую очередь определяется спецификой переживания Веры, а потом установками Исповедания и Мировоззрения, приложенными к Вере и молитве.
Вера основана базовым чувством жизни коренного Я и не подчинена психологическим законам и филическим установкам творчества. Веру определяет сама Вера, то есть особенности чувства Веры в той или иной Общей душе.
Исповедание выстраивается не от умозрения, откровения, опыта сознания, а от чувства Веры и установившейся практики обращения к высшим Силам или Существам. Все остальное, в том числе и факты священной истории, – прикладное.
Содержание Исповедания всегда удовлетворяет специфическим переживаниям Веры данной Общей души. Эквивалентных содержаний для любого из Исповеданий было, по-видимому, предложено не мало. В том числе и таких, которые вполне могли бы удовлетворить традицию переживания Веры. Конфессии образовывались из той одной, на которую указал исторический случай.
И все же содержание Веры, Вероисповедание, сращено с чувством Веры в общедуховной жизни и сращено так, что изменения в деталях Исповедания опасны для размывания самой Веры.
Религиозное чувство не только Вера и жизневоззрения, но еще и особое филическое чувство, которое наслаждает душу не менее влюбленности или интеллектуального вдохновение. Веруют всегда в то, во что вкусно верить, что возбуждает наслаждение религиозного чувства. Добывание духовного наслаждения – один из двигателей духовной жизни человека. Духовное наслаждение придает соответствующее духовное самочувствие. Духовных наслаждений немало и в личнодуховной жизни и в любви. Духовное наслаждение в общедуховной жизни это, прежде всего, духовное наслаждение религиозного чувства. Вера, какая бы она ни была, должна религиозно наслаждать человека. Это одно из основных требований к ней.
Неприятная или не совсем приятная религиозному чувству истина не нужна общедуховной жизни.
* * *
Отдельный человек крайне редко способен на выработку своего миропонимания и жизневоззрения. Вероисповедание и идеологию человек принимает не по разуму-мудрости и не по филическому разуму-интеллекту, а по Вере. Чувство-сознание Веры – чувство-сознание коренного Я – заложено в человека. Человек верует в то, что составляет его жизнепонимание, какое бы оно ни было.
Вера не может не выражать то, во что человеку хочется верить. Конкретное содержание Веры строится в соответствии с тем, во что хочется верить человеку стартового сознания жизни. Верят в то, о чем мечтается. Мечта, выраженная в Вере, становится наивысшим полетом духа, самым возвышенным состоянием человека.
Верить не то же самое, что признавать реальность или действительность того, во что веришь. И, наоборот, можно знать реальность того, что есть или грядет, но не верить в это. Про предмет Веры нельзя сказать, что он реален или нереален, он неведомо реален или нереален. Верят обычно в неведомое, реальность чего знать нельзя.
В отношении посмертного существования Вера есть то, что хочет обрести в посмертном существовании всякий человек. Если он хочет вечного блаженствования, то так и должно быть по установкам его Веры, в которых упования и действительность тождественны.
Вера утешает в том, в чем надо человека утешить, но утешить иначе, чем Верой, нельзя.
Вероисповедание (содержание Веры) не нуждается в достоверности. Люди исповедуют не потому, что достоверно то, что они исповедуют, а потому, что это разработано, предназначено и без твоего участия принято Вероисповеданием, не желающим опираться на истинность и достоверность и предъявляющим себя в высшем духовном достоинстве. Сама Вера провозглашается высшей доблестью души не в последнею очередь для того, чтобы человек не замечал дерзости, избитости и очевидной недостоверности тех решений главных проблем жизни, которые ему предлагают.
Общедуховные представления о посмертной жизни уравнивают посмертную участь людей по представлениям житейской справедливости. Элитарное положение в том мире должны занимать только те, которые, во-первых, назначены на это свыше и, во-вторых, представляют интересы живущих людей перед Всевышним.
В отношении достоверности ни одна Вера не лучше и не хуже другой. В том числе, и вера в Зевса или вера в коммунизм. Но, живя в безверии, человек кастрирует себя, устраняет правящий центр Структуры из своей жизни.
Достоверность требует веры (вера в достоверность), но исповедание – такое, каким оно всегда существовало в человечестве, – достоверности никогда не требовало. На Востоке исповедание искусственно подкрепляется трансцендентальным опытом, на Западе – чудом.
Все религии в разных видах возвещают человеку и то, что ему хотелось услышать, и то, что он, вне зависимости от достоверности, может принять по уровню своего сознания. В этом нет никакого лукавства потому, что основная функция Вероисповедания – духовно сплачивать Общую душу. Что невозможно на таком содержании, которое всякий человек не может принять или понять. Сплочение возможно на простых, ясных и не имеющих никакого отношения к достоверности установлениях, которые могут разделять все.
Вера и Вероисповедание – основа общедуховной жизни. Без Вероисповедания общедуховная жизнь невозможна. А поскольку общедуховная жизнь есть неотъемлемая сторона духовной жизни человека, то без Исповедания ослаблена и духовная жизнь человека как такового.
10
Власть есть одно из фундаментальных свойств Общей души. Как филическое переживание Власть не есть специфическая особенность собственно Общей души. Власть Нимрода эффективно действовала и в коллективном эго. Но в коллективном эго быть не могло духовной Власти; были институты обслуживания некоторых нужд общества, пусть весьма и весьма влиятельные, но это не духовная Власть. Только в Общей душе кроме нимродовой властности действует и Власть духовная.
Духовная Власть необходима общедушевному человеку так же, как и Вера. Переживание Веры и духовной Власти присущи человеку в качестве его базовых чувств-сознаний – чувств и сознаний его коренного Я. Вера – чувство жизни коренного Я человека. Духовная Власть – сознание жизни коренного Я человека. Духовная Власть действует в силу одного из базовых чувств-сознаний коренного Я, такого же, как Вера или сознание единичного выделенного Центра Всего – базового сознания человеческим Я своей подвластности Я Господа.
Подобно авторскому Я в личнодушевной стороне Структуры, нимродова Власть есть производная коренного Я в общедушевной жизни. Духовной Власти общедуховности ничего не сополагается в личнодуховной стороне Структуры. Духовная Власть это не производная коренного Я или МЫ.
Духовная власть обращена к Народности. Народность – поле действие духовной власти. Действующая по линии Шем-Хам духовная Власть устанавливает и сплачивает Народность. И наоборот.
Вера удовлетворяет потребность служения, эта потребность входит в чувство Веры. Служение в качестве левитского начала неустранимо в человеке, как и чувство Веры.
* * *
Сознание жизни коренного Я обращено к Подлиннику и постулирует личное присутствие Подлинника коренного Я в человеческой жизни.
Иерархия духовной Власти, сейчас действующая в Общих душах человечества, – это институт, возникающий в силу такого сознания Подлинника коренным Я при его обращенности к Нему по каналу Богоподобия.
Однако сознание жизни коренного Я это не осознание существующей духовной Власти, а извещение о том, что на этом базовом сознании должна быть установлена духовная Власть в человечестве.
Духовная Власть и нимродова Власть окончательно неразъединимы потому, что та и другая опирается на мощный фундамент хамовой общедушевности и коллективного эго. Духовная Власть и государственная Власть – две головы на одном туловище Хама.
Нимродова Власть Государства – назначающая воля общедушевной Самости. Хам и темное ОНО – исполняющая воля общедушевной Самости.
Духовная Власть – назначающая воля Народности Общей души. Есть у Народности и своя исполняющая воля – вероисповедальческое ОНО. Вероисповедальческое ОНО совершенной иной интонации, нежели темное ОНО. Вероисповедальческое ОНО – не толпа верующих, а общедуховный строй. Вероисповедальческим ОНО человек ставится в строй Шема. Шем – это общедушевная сторгичность, это определенное общедушевное человекопонимание, включающее представление о назначении человека и специфические общедушевные моральные переживания, и это вероисповедальческое ОНО. Общей души нет без Шема и его ОНО.
Можно исповедовать Веру, быть в конфессии и не быть в составе вероисповедальческого ОНО, то есть не жить общедуховной жизнью. И наоборот. В Китае нет Вероисповедания в европейском понимании, но от этого его Вероисповедальческое ОНО не становится слабее. Нахождение в строю вероисповедальческого ОНО – одна из сторон общедуховной жизни.
Вера одной конфессии может быть одна и та же у разных народов, но вероисповедальческое ОНО у каждой Общей души свое.
Вероисповедание может погибнуть в народе и вновь возникнуть, но достаточно глубоко разрушенное вероисповедальческое ОНО не восстановимо. Возрождение Веры возможно, но не восстановление вероисповедальческого ОНО.
В качестве смысложизненной силы, самодостаточной и магической, вероисповедальческое ОНО, как и верования, не требует личной убежденности и даже не ведает, что это такое. Вероисповедальческое ОНО – нечто само собой разумеющееся, передающееся из поколения в поколение, могучее пассивной уверенностью, не нуждающееся в упорстве напряженной душевной работы, в духовных страданиях углубленности, религиозном беспокойстве, в опыте растущей души. Вероисповедальческое ОНО получено с детства, схоже с внушением или гипнозом, самоуверенно и покойно, самоудовлетворено и недвижно и потому требует безусловного и благоговейного послушания.
В составе Народности вероисповедальческое ОНО совмещено с темным ОНО и образует строй Общей души. Вероисповедальческое ОНО часто подает темному ОНО мобилизационный сигнал и высшее мобилизационное обеспечение. Но при этом не рассевает тьму темного ОНО. Паства это правоверные, спаянные вероисповедальческим ОНО Церкви, которая претендует на то, чтобы быть институтом вероисповедальческого ОНО, и интерпсихическим темным ОНО Власти.
Сплоченность двух ОНО используется Общими душами в качестве боевого оружия духовной Власти, желающей в наибольшей степени ощущать и утверждать себя.
11
В каждой религии действует и вера, и закон, и власть, и культ, и магия, но основная установка на первом плане у всех разная.
Доминантой языческих религий является магия и почитание высших сил, от которых непосредственно зависит жизнь человека. Язычество – религия магического воздействия на божества на пользу человека. Все остальные религиозные представления и установления либо обрамляют магизм, либо обслуживают его.
Авраамические религии отличаются от языческих не только монотеизмом и общедуховностью, но и установкой поверх и впереди всего переживаний и сознаний коренного Я – Закона, Веры, духовной Власти. Потому они и высшие религии.
Осмысливать язычество со структурной точки зрения (и, тем более, с точки зрения коренного Я Структуры человека) нецелесообразно. Авраамические религии надо осмысливать со структурной точки зрения.
Иудаизм делает основной упор на свободной Господней Воле и спорит о точном исполнении Его заповедей. Иудаизм – религия, абсолютной доминантой которой является Закон. Иудаизм стремится к максимальному расширению сферы подзаконности жизни. Иудаизм – религия Исполнения Закона. Основное в нем – правозаконие, правильное Исполнение заповедей. Вера и духовная Власть важны, конечно, и сами по себе, но необходимы прежде всего для исполнения Закона.
Коренное Я в трех сторонах Структуре явлено своими авторскими производными. Коренное Я предстает в работе Структуры в качестве свободного центра управления «Я», действующего в трех сторонах Структуры в разных ракурсах.
Свободное управление «Я» – действие коренного Я по управлению внутренним миром человека. Коренное Я одно на всех. И действие коренного Я по управлению Структурой должно быть у всех одно и то же. Значит, для всех людей и на всех людей должен быть свыше установлен для исполнения свободной волей человека единый свободный Центр Управления.
Религиозный пафос иудаизма со структурной точки зрения – в абсолютизации и верховенстве ЦУ «Я».
Коренное Я Структуры явлено в Иудаизме в Исполнении. Иудаизм – религия Исполнения требований Божественного Центра Управления «Я» в человеке. Всевышний в Иудаизме есть Установитель единого для человека и человечества Закона для управления внутренним миром и поведением человека как такового – заповедей Торы, к религиозному исполнению которых призвана Общая душа Израиля.
Какой человеческий смысл заповедей и есть ли он – не имеет особого значения. Заповеди даны Богом для того, чтобы являть в человеке и через человека Божественный Центр Управления. Все авторские производные Структуры ставятся на обслуживание Божественного Центра Управления.
В Иудаизме человек обращен ко Всевышнему своим свободным ЦУ «Я». Управляющая производная коренного Я – свободное ЦУ «Я» обретает в Иудаизме высшее религиозное звучание.
Иудаизм вводит Господа во внутренний мир человека в качестве Божественного Управления. Сам Господь Бог явлен человеку в действии единого Божественного Центра Управления.
* * *
Вера во всех религиях это само собой разумеющееся обеспечение основных религиозных установок. Веровать, с любой точки зрения, это свойство любой религии и религиозного жизнечувствования вообще. Но только в Христианстве Вера поставлена во главу угла.
Неверный для иудея – не тот, который не верит или верит не в то (догмата Веры в Иудаизме нет), а тот, который не исполняет Закон или неверно исполняет. Чтобы верно исполнять, надо верно понимать. Неверно исполняющий – неверно понимающий, толкующий.
В религиях Востока и в язычестве отношение к тому, как человек верит, весьма лояльно. То, во что верят, не имеет конфронтационного содержания. На первом месте в язычестве не Вера, а разного рода магические средства и действия, почитания и празднества.
Воспитанный в европейской культуре человек, толкуя о разных Вероисповедании народов мира, употребляет понятие Веры как синоним религии. Говорится о буддийской Вере или исламской Вере. Это не верно в том смысле, что во всех других религиях не Вера основополагающее и главенствующее религиозное переживание. Во всех религиях, кроме Христианства, не исповедание Веры, не Вероисповедания, а иные Исповедания.
Возникновение новой религии должно основывается на особой потребности внутреннего мира человека религиозного выразить и утвердить себя так, как до того он не был выражен и утвержден. В случае Христианства это – Вера.
В первых веках нашей эры Христианство создало новый до того невиданный тип религии, абсолютной доминантой которой стала Вера. Вера в Христианстве – главное ни с чем не сравнимое религиозное достоинство человека. Христианство поставило Веру впереди всех других сторон религиозной жизни человека, в главенствующее и всеохватное религиозное переживание. Христианство предельно усилило вдохновляющее чувство Веры в человеке и поставило его на заглавное место. Нравственные принципы, культ, таинства, заповеди, мистические построения, духовная власть – обслуживают Веру, служат утверждению и выражению Веры как таковой.
Христианство – религия Веры. Христианину нужна Вера и только Вера. Главное в Христианстве – твердость Веры, правильность переживания Веры и утверждение крепости Веры.
Христианство предъявило Веру человеку в качестве исповедания Верой, заменив Иудаизм, который предъявлял Закон в качестве исповедание Законом.
Учение о Богочеловеке и сознание себя (человека) Его подобием для исповедания Верой как нельзя уместно. Живой образ Спасителя и его крестной Жертвы ради человека – идеальный объект для религиозного чувства Веры. Постоянное сопереживание земной жизни Бога-Сына в высшей степени способствует усилению и утверждению исповедания Верой.
Евангельская история, Бог-Сын, культ, таинства – все для наиполнейшего осуществления Веры в душе человека. Вера вершит чудо, спасающие христианина при жизни. Вера – его наивысшее духовное наслаждение. На Вере в Христианстве установлено все, и жизнь, и смерть, и счастливость жизни, и сам христианский образ жизни. В Вере спасение человека от бедственности жизни во время жизни и после смерти. С любой праведностью, но без твердости Веры спасение немыслимо.
* * *
Коренное Я человека, его Первое Лицо, есть подобие Божественного Первого Лица. Коренное Я исполняет свое подобие в Законе, в заповедях, знает себя подобием в Вере, утверждает свое подобие в подвластности.
Ислам основан на чувстве-сознании коренного Я, обращенного как подобие к Подлиннику, но переживаемуму не как Подлинник, которому человек исходно подобен и которому ему следует все более уподобляться, а как Божественная Власть. Главенствующее переживание Ислама – переживание Власти в ее идеальном выражении, переживание Всевышнего как носителя абсолютной надчеловеческой Власти.
Христианство – религия Веры. Ислам – религия Власти. В основании всего и над всем в Исламе поставлена подвластность Господу. Ислам переживает Господа как Владыку. Человек в Христианстве – сын Божий. Человек в Исламе – воин Божий.
Христианство делает основной упор на Вере и спорит о правильности Веры; отсюда особое значение символа Веры и догматов. Ислам делает основной упор на Власти и спорит о легитимности Власти и верной подвластности.
Христианство стремится к саморасширению человеческого пространства Веры; отсюда христианская тяга к миссионерству. Ислам стремится к саморасширению Власти в человечестве; отсюда его тяга к завоеваниям, проявившая себя уже в первые десятилетия существования этой конфессии.
* * *
В Иудаизме Вера и духовная Власть прикладывается к исполнению Закона. Духовная Власть в Христианстве обслуживает Веру. В Исламе Вера обслуживает основополагающее и главенствующее религиозное переживание подвластности Всевышнему. Позы молитвы в Христианстве – поза Веры. Поза молитвы в Исламе – поза подвластности.
Пафос иудаизма – в Правозаконии. Пафос христианства – в Правоверии. Пафос ислама – в Правовластии.
В Христианском Царстве Божьем на Земле все веруют во Христа. В земном Царстве Божьем Иудаизма все человечество живет по заповедям Торы. Исламское Царство Божье на Земле – Всемирный Халифат.
Гордость – негативное свойство в отношении Веры. Вера (чувство Подлинника коренного Я) требует смирения (перед Подлинником коренного Я). Для религии Власти гордость свойство безразличное. Для гордого или не гордого человека важно знание и переживание своей подвластности. Поэтому человеческая гордость (и даже высокомерие) процветают в Исламе.
Вера в Исламе – вера-верность (верность по вере) и вера-подвластность (верное религиозное подданство). Для Ислама неверный – подчиняющийся не той или не такой Власти, и как авторскому началу коллективной жизни людей и как Власти как таковой.
Ислам основан на абсолютизации чувства-сознания подвластности человека Богу. Ислам не столько Вероисповедание, сколько исповедание Божественной Власти – Власти Аллаха, Всевышнего Творца Неба и Земли, над коренным Я и через него над человеком в целом.
* * *
В 20 веке западный человек отказался от религии Христианства, но не отказался от Веры. Социалистическая религия и фашистская религия были религиями Веры и Власти. Обнаруженные человеком научные законы, управляющие в Мире и человеке в качестве псевдобожественного начала, втайне опиравшиеся на ослабленном переживании религиозности Закона и Веры.
Во второй половине 20 века западноевропейский человек породил новую постмодернисткую религию. Ее можно осмыслить с о структурной точки зрения.
Христианство базируется на Вере коренного Я в Господа, Иудаизм на возведении в Божественный статус функции управления коренного Я, Ислам на подвластности коренного Я Господу. Так или иначе главенствующим субъектом религиозного переживания в авраамических религиях является коренное Я, а не его производные в Структуре. Религиозность постмодернизма возвела в субъект религиозного утверждения то «я», которое стандартный человек признает «своим Я» – авторское Я. Абсолютизация и возведение в религиозный статус жизнедействия авторских производных коренного Я на личнодушевной стороне и стороне Встречи при пренебрежении авторской производной общедушевной жизнью, Властью – вот структурное основание установлений мелкорелигиозности постмодернизма.
У нас еще будет возможность подробнее сказать о религии авторского Я и ее значении. Теперь два предварительных замечания.
На службу религиозно явленных двух волевых производных коренного Я в либерально демократической религии поставлены и Власть и Закон.
Западный человек призывается идеально относиться к требованиям юридического закона (выдуманного некоторыми людьми для кратковременного исторического употребления) как к высшему Закону. Современное «правовое общество» – бледная светская копия еврейского религиозного правого сообщества.
Правовластию в Исламе придается высший религиозный статус. Но это никак не сближает Ислам с религией авторского Я. Чувство-сознание Божественной подвластности, которому придается наивысшее религиозное значение в Исламе, прежде всего удовлетворяется общедушевной производной Божественного Я, Властью, на службу которой ставится авторское Я. В этом отправном пункте установки западной демократии диаметрально противоположны установкам Ислама, с ним несовместимы.
12
Животному его образ жизни жестко задан. Человеку необходимо выбрать образ жизни и следовать ему. Первейшая забота человека – найти свой образ жизни или образ жизни для себя. Встать в определенный образ жизни для большинства людей означает найти себя и решить свою жизнь. Душа человеческая не успокаивается, пока вольно или не вольно не включает себя в некий образ жизни, себе свойственный или не свойственный.
Человек ищет смысл жизни и по потребности серафической личности и в попытках уйти от бессмысленности собственно земного существования и для того, чтобы понять как ему следует прожить жизнь. Как жить – образ жизни – вроде бы должен исходить из для чего жить. Но это не так. В результате поисков смысла жизни человек выбирает определенный образ жизни, ему следует и подгоняет под него представления о смысле жизни. В стандартной ситуации ответ на вопрос «для чего жить» сводится к ответу «как жить». В логической цепи это выглядит недоразумением. Но это не недоразумение, а действие особо притягательной силы образа жизни.
В серафической (личнодуховной) жизни, на Пути восхождения, человек находит себя при личностном рождении, при переходе из периода чужой жизни в период своей жизни. И в путевом и в расширенном смысле своя жизнь – это во многом свой образ жизни. Человек, сколь богат, славен, успешен он ни был, страдает, когда оказывается, что он не живет своим образом жизни. Ностальгия по родине – ностальгия по родному образу жизни.
Образ жизни – одно из центральных понятий жизни человека и основной установитель его жизнепрохождения, и семейного, и профессионального, и общедушевного. Власть над человеком образа его жизни (от традиционного веками выверенного образа жизни до образа жизни кружка) огромна.
Юноша горит желанием пойти в военное училище прежде всего потому, ему по душе офицерский образ жизни, и затем по другим мотивам (в том числе, чтобы служить Родине). Супружество обычно выбирают или устанавливают по желаемому семейному образу жизни (часто ориентированного на образ жизни родителей). Учитель, посвятивший себя детям, или врач больным редко делает это потому, что любит детей или болеет душою за страждущих, а потому, что ему по душе престижная ответственность образа жизни учителя или врача.
Ответы на основные вопросы человека закреплены в образе жизни и в нем сохраняется. Главный вопрос «как мне жить?» человек решает, включаясь в тот или иной образ жизни. Многие кризисы своей жизни человек разрешает сменой (переменой) образа жизни. Образ жизни дарует человеку ту прочность существования, которой в нем нет. Включаясь в тот или иной образ жизни, человек получает не только стиль и правила каждодневного поведения, но и практические ответы на вопросы жизни.
Обыкновенно человек выбирает не мировоззрение и жизнепонимание, не убеждение или религию, не правящую идею даже, а образ жизни. Само по себе мировоззрение не определяет жизнь, а прикладывается к самореализации в выбранном образе жизни. Девушка идет в монастырь и всю жизнь свою отдает бедствующим людям не потому, что познала тщету мирской жизни и решила посвятить себя Господу, а потому, что с юности полюбила соответствующий образ жизни и его осуществляла. Любит человек быть в общественной борьбе, а уж за что она и с какими идеями – как придется. В революцию шли чаще всего не по идее, а потому, что нравился образ жизни революционера. Бывает, что становятся бандитом по прельщению бандитским образом жизни. Сегодня многие едут в Индию потому, что им разонравился один образ жизни, и он пробует пожить иным образом жизни, еще не надоевшим.
Человек прежде всего занят тем, что выбирает или меняет образ жизни. И вместе с ним и ту форму – ситуационную, идеологическую, вероисповедальную и пр. – в которой выбранный образ жизни выражает себя. Почему меняют один образ жизни на другой – причин миллион, важно, что изменению подлежит, как правило, не мировоззрение и жизнепонимание, а образ жизни. И не так, что сначала смена мировоззрения, а потом образ жизни, а либо вместе образ жизни и убеждения, либо образ жизни и вместе с ним убеждения.
Образ жизни замещает человеку все то, что должно бы быть в нем под управлением высшей души. И веру, и убеждение, и любовь. Не по вере, убеждению, любви люди выбирает образ жизни, а убеждения, веру и любовь вместе с выбранным по стилю горения души образом жизни. Принять Вероисповедание значит принять или только определенный образ жизни или принять образ жизни и вместе с ним определенное жизнепонимание и мировоззрение. Если определенный образ жизни, православный ли или еврейский, советский или американский привлекает человека, то он принимает установки мировоззрения, которые этот образ жизни обслуживают. Искренне считая, что живет в соответствии с мировоззрением.
Предлагать человеку в качестве руководства какое-либо мировоззрение, сколь бы убедительно оно ни было, в чистом виде нельзя, он сможет принять его только вместе с образом жизни. Само по себе мировоззрение может заинтересовать людей, но жить по нему он не будут до тех пор, пока им не укажут определенный образ жизни, в который они с этим мировоззрением могли бы встроиться. На практике мировоззрение не усваивается человеком без образа жизни. Людям надо показать, как им надлежит жить, привлечь их неким образом жизни и к нему приложить мировоззрение. Тогда оно заработает.
Жизнеучение Христа первые три века сохранились и распространились, благодаря созданному христианскими общинами образу жизни, соответствующего эсхатологическому времени.
Будда не создавал с нуля новое жизнепонимание, он создал буддийскую практику, особый образ жизни и вместе с ним соответствующее ему учение.
Успешными стали только те из пророков, учение которых было принято для обоснования и установления образа жизни Израиля.
Толстой возвестил новое жизнепонимание воззрение и вместе с ним толстовский образ жизни. И всю жизнь страдал, что сам не может вполне осуществить его.
Прозреватель любой силы может прозревать сколько ему угодно, но его прозрения не будут востребованы, пока они не обеспечены образом жизни, который востребует их для своего религиозного или идеологического обеспечения.
* * *
Образ жизни не то, чтоб содержит руководство, а руководит жизнью, обладает ориентирующей волей, изнутри устанавливает ценности жизни. Приняв тот или иной образ жизни, человек правит себя под выбранный им или ему навязанный образ жизни.
Главная характеристика общества не политический режим, не социальный расклад, не экономическая ситуация, не вероисповедание или идеология, и не культура, а образ жизни, выкованный в разные времена и политическими режимами, и классовыми раскладами, и вероисповеданием или идеологией, и культурой и многим другим, в том числе весьма неопределенным.
Сохранение или изменение в образе жизни лежать в основе самых разных исторических движений. Реформация в Европе (во всяком случае со второй ее волны) – борьба за иной образ жизни. Для установления нового буржуазного образа жизни и его религиозного обоснования необходимо было ослабление вероисповедальческого ОНО ватиканской духовной власти и усиление приватной религиозной жизни.
Противостояние западников и славянофилов, как императорских, так и постсоветских времен, – противостояние двух идеально переживаемых образов жизни. Российская контрреволюция 1991 года вдохновлялась не столько идеями или отрицаниями идей, сколько прельщениями западноевропейского и североамериканского образа жизни.
* * *
Нельзя одному или вместе с друзьями жить общедуховной жизнью. Исповедовать Веру народа и как можно точно следовать ей еще не значит жить его общедуховной жизнью. Чтобы жить общедуховной жизнью недостаточно жить шемовой жизнью самой по себе (даже если она подкреплена погружением в яфетическую жизнь). Надо жить сторгической общедуховностью и этнической общедушевностью, жить шемовой и хамовой жизнью Народности, этнически и психически не отчужденно от нее.
Но и этого недостаточно. Нельзя полноценно жить общедуховной жизнью, не живя жизнью общедушевной. Чтобы жить общедушевной жизнью своего народа надо жить вместе с народом, быть его частицей. Можно любить и знать культуру народа, но это не значит жить его общедушевной жизнью. Чтобы жить полноценной общедуховной жизнью надо, во-первых, психически и сторгически стать человеком народа, сделать его Хама и его Шема своим и, во вторых, жить образом жизни своего народа.
Самобытность народа это самобытность его внешнего и внутреннего образа жизни. Однако, самобытность общедушевного образа жизни не в отличиях образа жизни одного и другого народа, имеющих общую базу, а разные базовые установления жизни нации. Образ жизни – не отличительные, а базовые черты жизни нации. И вообще не черты, а база жизни нации.
Образ жизни Общей души – не нравы, обычаи, разнообразные правила, не закон и не мировоззрение, а нечто сущностно неописуемое, во всяком случае не поддающееся четкому определению и рационализации содержание, для которой все перечисленное предоставляет совокупную форму внешнего выражения. Содержание образа жизни не сводится к этим параметрам и из него не выводится.
Образ жизни народа складывается из внешнего образа жизни (его формы) и внутреннего (собственно общедушевного) образа жизни (его содержания). Общедушевное (шемово) мировоззрение и жизнепонимание входит во внутренний образ жизни Общей души (а не прикладывается к нему), определяет общедушевную атмосферу жизни народа.
Образ жизни – и домината и интегральное качество жизни человека и его Общей души. Общая душа состоялась, когда полновесно определился ее внутренний и внешний образ жизни.
Образ общедушевной жизни – лучший определитель народа. Это его доминанта. Общедушевный образ внутренней жизни в основных чертах тысячелетиями остается одним и тем же, каждый раз иначе выражаясь при переходах из одной современности в другую.
Общедушевные ближние («свои») те, кто живут одним общедушевным образом жизни, и внешним и внутренним. Принадлежать народу значит жить его образом жизни. Войти в народ значит принять его образ жизни в качестве своего. Вполне жить чужому образом жизни своих нельзя. Встроиться в чужой образ жизни можно при выпадении из своего образа жизни.
Свой образ жизни – величайшая ценность народа. Когда люди ставятся перед выбором: сохранить образ жизни (ставший, скажем, смертельно опасным или непосильным) или сохранить жизнь, то многие решают сохранить образ жизни ценой свой жизни или благополучия ее.
Губить народ – разрушать его образ жизни. Не уклад жизни, пусть и освященный поколениями предков, а образ общедушевной жизни. Разрушать, а тем более фундаментально разрушать, образ жизни народа – преступление перед ним.
Образ жизни – не только главная, но и универсальная характеристика Общей души. Народность и национальная Самость сходятся на установлении совместного общедушевного образа жизни. Национальная Самость более устанавливает внешний (и обращенный вовне) образ жизни. Народность – более внутренний (и для внутреннего употребления) общедушевный образ жизни.
Общедушевный образ жизни впитывает в себя и выражает как национальную Самость, так и Народность. При нарушении образа жизни нации Народность и национальная Самость чувствуют себя ущемленными и стремятся к восстановлению.
Все явления жизни человеческой можно (и нужно) оценивать по планке высоты и чистоты образа жизни. Высокий ли образ жизни, невысокий или низкий. Это может быть сугубо личный образ жизни, который ведет один человек на всем свете. Это может быть образ жизни среды, в которую он попал. Это может быть общенародной или, шире, общедушевный образ жизни, к которому он принадлежит по рождению.
В основном люди получают или выбирают образ проживания, внешний образ жизни и к нему прикладывают внутренний образ жизни. Но есть и такие, их всегда немного, кому важен именно душевный образ жизни. Внешний образ жизни для них обрамление и наружное выражение внутреннего образа жизни. Они-то более всех стремятся к высокому образу жизни и создают его. Как правило, это конфессиональный образ жизни.
Все мировые религии и их ответвления стремятся удовлетворить общедушевную потребность человека в высоком образе жизни. То, что называют духовной властью, есть верховный установитель высокого общедушевного образа жизни – внешнего и внутреннего. В этом несомненная необходимость конфессиональной власти как таковой.
Деградация общедушевности – деградация образа жизни. Особенно опасны такие общественные потрясения, политические, экономические или исповедальные, которые понижают высоту и разрушают чистоту образа народной жизни. Феминизм – бунд женщин против выработанного веками традиционно высокого женского образа общедушевной жизни. Беда в том, что при этом образ жизни женщин (и мужчин) меняется не на более высокий, а на невысокий, а то и на низкий образ жизни.
В каждом Вероисповедании есть своя высокая поэтика души. Для людей духовной (серафической или шемовой) жизни она служит в качестве филической или яфетической составляющей творческой духовной жизни. Для основной массы людей, особенно женщин, исповедальная поэтика необходима для установления определенного (религиозного) образа жизни. Но она может стать (особенно для женщин, отправленных без мужского духа в автономное плавание) вкусной оберткой, дарующей наслаждающее настроение яфетической жизни, оторванной от любого рода духовной жизни и от высшей души.
Религиозно лирические чувства призваны способствовать возвышению образа жизни нации. В том числе и для тех, кто не способен жить высшей душою или серафической личностью. Но восприятие религиозной поэтики, хотя и облагораживает плотскопсихическую жизнь, автоматически не сказывается на уровне духовного сознания человека, а то и замораживает его. Религиозную поэтику не просто приноровить в качестве вспомогательной силы роста духовной жизни.
Христианская поэтика по большей части основана на агапических мотивах, но не несет агапическое сознание. Христианское лирическое настроение не ведет к достижению агапического состояния, но не мало способствует созданию высокого образа жизни.
Обновлено 30 июня 2025 года. По вопросам приобретения печатных изданий этих книг - k.smith@mail.ru.